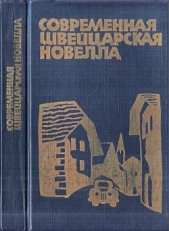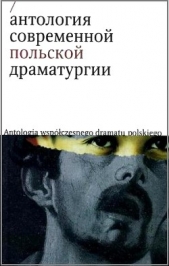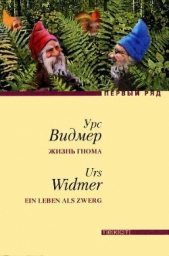Якоб решает любить

Якоб решает любить читать книгу онлайн
Российский читатель открывает для себя новое имя — Каталин Дориан Флореску. Прекрасный рассказчик, умеющий подмечать мельчайшие детали, передавать эмоции в полутонах, отслеживать все движения души персонажей. «Якоб решает любить» — первая книга Флореску, изданная на русском языке и пятая из им написанных. Именно этот роман в 2011 году был удостоен престижной литературной премии The Swiss Book Prize и, по словам Михаила Шишкина, «катапультировал своего автора в первые ряды современной европейской литературы».
Сага «Якоб решает любить» полифонична и многокрасочна, она охватывает события XVIII–XX веков, и ни одного дня герои не прожили без противостояния — силам природы, жизненным обстоятельствам, историческим катаклизмам. И тем не менее это книга о любви — любви в исконном, библейском смысле, о том, что способность простить и отпустить — дар, которого не многие достойны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мать пыталась его утихомирить, хватала за руки, обнимала, но он отталкивал ее. Она говорила, что лошади еще пригодятся для работы в поле, что они дорого стоят, но отец спустил курок. Потом вывел следующую лошадь. Он выстрелил пять раз, пока двор не превратился в одну большую лужу крови. На неостывшие тела любимых дедом животных слетелись сотни мух. В тот день дед и начал умирать.
Всего за каких-то пять лет отец съежился, как высохший фрукт. Шикарный костюм, который он теперь, очевидно, носил на работу, стал плохо сидеть. Его исхудавшие руки и ноги в этом костюме казались конечностями деревянной марионетки, одетой в широкие одежды ради развлечения публики.
От некогда импозантной внешности отца остались только широкие ладони, которые он, увидев и узнав меня, неуверенно спрятал в карманы брюк, не в силах унять волнения. Его примечательный нос теперь выглядел как безобразная рана. Волосы на голове, прежде густые и сильные, стали жиденькими и липли к коже.
Мне потребовалось несколько минут, чтобы узнать в этом человечке того мужчину, которого я в детстве так боялся и которым восхищался. Время не пожалело и мать, оно легло на нее столь тяжким грузом, что она сильно ссутулилась. Стала женщиной со скорбным лицом и потухшими глазами, в черном платке на голове. Насколько я вырос и укрепил свое анемичное тело, свою конституцию, настолько же они оба сели, словно вещи, постиранные в слишком горячей воде.
Отец остался на месте, мать шагнула вперед, словно захотев одним прыжком оказаться рядом со мной, но отец шепнул: «Эльза, держите себя в руках». Она вновь оробела и опустила голову. Мы смотрели друг на друга с безопасного расстояния. Глаза ее подернулись белесой поволокой. Я снял свитер и протянул ей.
— Он тебе пригодился? — спросила она, взяв его.
— Еще как.
— Ты выжил, — тихо повторяла она.
У меня не было повода рассказывать ей что-то еще, кроме того, что я выжил.
Каково бы им было услышать, что все эти годы я, как крот, рылся в земле в поисках костей всего в восьмидесяти километрах отсюда, пока они думали, что я вместе с остальными, голодный и изможденный, рискую умереть от болезней или от холода? Вся их скорбь, вся вина, если они и чувствовали ее, все это показалось бы им смехотворным, все их страдания — бессмысленными, это означало бы, что я ничего этого не заслужил.
Нет, если я хотел иметь право на возвращение, на внимание, которого наконец-то удостоился, я должен был для них быть выжившим в Сибири. Тем, кто повидал ад и вернулся оттуда. Если бы я разрушил этот образ, их гнев снова уничтожил бы меня. Я быстро принял решение и ответил:
— Да, я выжил.
— Но ты совсем не похудел. Некоторые в деревне получали письма от своих, и те писали, что вы были всегда голодные.
— Меня кормили лучше, чем остальных, чтобы я работал.
— Что тебе приходилось делать?
— Хоронить мертвых.
Мать отшатнулась от меня и перекрестилась.
— Так, значит, ты должен был хоронить умерших товарищей?
— Вроде того.
— Могильщик, — произнес отец.
— Лучше копать могилы для других, чем самому лечь в могилу, — возразила мать. — С тобой вернулся кто-нибудь еще?
— Нет, только я. Я вскоре расстался с ними, меня отправили в другой лагерь.
— Тебя все будут расспрашивать, задавать много вопросов, — сказала мать. Прижав свитер к себе, она погладила его. — Даже ни одной дырочки нет. Пойду в дом, постираю его, и потом опять наденешь. По утрам все еще холодно.
И она ушла в людскую.
Я остался во дворе вдвоем с отцом, но спиной я чувствовал взгляды Сарело и его жены из окна.
— Они давно наблюдают за нами. Никак не могут поверить своему счастью, хоть коммунисты и защищают их, — проворчал отец. — Так теперь у многих швабов. Они живут в людских, а бывшие батраки — в их домах. Когда нужны дрова, приходится клянчить у него.
Кивком головы он указал на окно, за которым виднелся слабый свет керосиновой лампы.
— Вообще-то нам теперь тоже провели электричество, но ему нечем платить. Цыгану. Вот такая благодарность за то, что я взял его к себе.
Сгущались сумерки.
— Ты взял его, потому что он твой сын и мог тебе пригодиться. Лучше, чем я.
— Значит, ты знаешь. Тем лучше, ведь теперь это не важно. Я уже не так уверен, что он мой сын. Цыганка столько всего понарассказывала, что уже сама не знала, где правда, а где выдумка. К тому же любая мать пойдет на все, чтобы спасти сына.
— То, за что она тебя озолотила, было правдой. Он похож на тебя лицом, и повадки те же.
Отец пожал плечами и пошел, не глядя на меня, но остановился и сказал:
— Пойдем в дом, мать, наверное, уже на стол накрыла.
Я был в смятении, не мог разобраться в своих чувствах. Едва вернувшись домой, я уже успел привнести в мир новую ложь и встретил отца, который так изменился, что его едва ли можно было ненавидеть или проклинать. Раньше я собирался сделать что-то в этом роде, но теперь это потеряло смысл. Я собирался сказать ему в лицо: «Я твой сын, а не он, ты, сволочь!» — но теперь я был на это не способен.
Он не выгнал меня, не угрожал, даже пригласил к ужину. Человек, которого настигло изгнание, так давно знакомое мне.
— Это правда, что дед умер? — спросил я отца, когда он проходил мимо. Вопрос остался без ответа.
Людской называлась низенькая квадратная постройка, где раньше жили венгерские и румынские сезонные работники, которых мы нанимали для сбора урожая. Потом их место занял дед. Через окно я видел, как мать склонилась над кастрюлей, в которой булькал какой-то суп. Пока отец у порога снимал сапоги, она нарезала хлеб, сало и накрыла обеденный стол — круглый тяжелый дубовый стол, прежде стоявший в гостиной.
Она смахнула с лица прядь волос и вытерла руки об фартук, прежде чем снять кастрюлю с огня. Окна запотели от пара, и я с трудом видел мать и отца, вошедшего в домик. Они явно о чем-то разговаривали. Их рты беззвучно открывались, будто они в аквариуме, но могут дышать без жабр.
Отец приоткрыл дверь и высунул голову.
— Может, принесешь дровишек немного. Все в порядке, Сарело утром разрешил.
В сарае было темно, но руки на ощупь нашли то, что искали, им не нужно было привыкать, они все помнили. В хлеву не хватало запаха лошадей, того присутствия животных, которое раньше чувствовалось там, даже если лечь в темноте и закрыть глаза. Не хватало и золота, которое отец посеял там, но так ничего и не пожал. Я чуть не свалился в яму, ее все еще не засыпали.
Родители сидели за столом на единственных двух стульях, которые отдал им Сарело, я сел на перевернутый ящик. Я снова спросил про деда.
— Папа умер два года назад, — прошептала мать и перекрестилась.
Кое-как сделанная печка закоптила стены, когда-то оштукатуренные белым, а ветер нес дым обратно в дом. Мы постоянно кашляли, но долго не говорили ни слова, все жевали, каждый был погружен в свои мысли. Мать то и дело вставала, подходила с тарелками к плите и накладывала нам добавки. Мы ели из богемского фарфора, от сервиза на двадцать персон осталось всего три оббитые тарелки.
— Я с удовольствием приготовила бы что-нибудь еще, чтобы отметить этот день, но больше ничего нет, — извинилась мать.
Потом опять наступила тишина, которая царила почти весь вечер, пока керосин в лампе почти не закончился и тени в комнате не стали длиннее. Лишь тогда отец заговорил:
— Ты пришел отомстить?
— Сегодня мне уже задавали этот вопрос.
— Ты ведешь себя не так, как можно было бы ожидать. Я бы, наверное, убил за такое. Но ты не бьешь меня, не злишься, даже не выругался ни разу.
— Вот и радуйся.
— Ты ненавидишь меня?
— Хотел бы я сам знать.
Его плечи опали, словно чужие.
— Я могу лишь сказать, что уже несколько лет жалею, что не принял тогда другое решение.
Мы легли спать, я — на полу, а они — на старом диване, окутанные запахом еды и вонью наших немытых тел. Прежде чем уснуть, я подумал, что, наверное, Фредерик Обертин и первые колонисты тоже спали вот так. Так же, как и мы, они терпели спертый воздух, холод, усиливающийся с каждой минутой, и ночь, накрывшую нас всех.