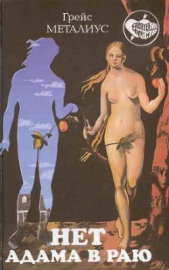Уникум Потеряева

Уникум Потеряева читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дверь отворилась, и в светлом проеме возникла фигура фермера Ивана Носкова. Он спустился по лестнице вниз — и остановился, словно ослепленный, перед белою фигурой Любви Сунь, лезущей большими грудями на козырек кровати.
— О-о! — протянул он. — Вот так де-евка! Ты откуль такая взялась, красавица? Замуж за меня пойдешь? Давай одевайся — вот не сойти с места, сейчас увезу!
Клыч выбросил из-под одеяла тонкое, жилистое, поросшее крутой шерстью тело; прикрывая срам, он враскорячку подлетел к крестьянину, ухватил его за шкирку, оттащил его к порогу и мощным пинком выбросил вон. Любка восторженно взвизгнула, и вжалась в койку. Батрак вернулся на прежнее место, бережно укрыл ее и прижал к себе. Крячкин заторопился наружу, принялся там толковать с не утерявшим былое достоинство Иваном.
— Надо ехать, — сказал Фаркопов. — Чего я тут, спрашивается, потерял? Девке в торговый, гад, поступать, а я как курва с котелком…
— Эй, работнички! — крикнул хозяин. — Иван-от обрезь на обрешетку привез — давай, выходи, разгрузить надо!
Богдан поднялся, глянул на клычеву кровать: она ходила ходуном. Махнул рукою, и они с Фаркоповым вышли из избы.
Тело Клыча возносилось и опадало в жарких Любкиных узах. Лишь голова не участвовала в этом пире: на ней не отражалось ни единого содрогания. Она торчала наружу и была запрокинута; зоркие глаза невозмутимо глядели в какую-то точку, резкие черты были строги и покойны, крючковатый нос вис над длинной губою. «Ка-а!» — выдохнул рот, — и это был единственный звук, нарушивший воцарившееся в избе вековое спокойствие древних верблюжьих властелинов.
СЧАСТЬЕ ПУЧИТ, БЕДА КРЮЧИТ
Зоя Урябьева рыдала, горько и безутешно. Впрочем, приостанавливалась — чтобы прокричаться.
— Какие жестокие, безжалостные люди! Для них нет буквально ничего святого! Они готовы глумиться, кощунствовать, надругаться над самым дорогим: историей родного края, его уникальными реликвиями! Они хуже убийц! Я буду писать в ЮНЕСКО!..
Оперативно-следственной группе — сержанту Вотяеву с овчаркою Гильзой, эксперту Лие Фельдблюм, следователю Тягучих и оперативнику Васе Бякову, — бурные эмоции музейной начальницы действовали на нервы, — но лишку на них никто не отвлекался, делали каждый свое дело; только порою косились на Васю: ну и невесту ты себе выбрал, братец! Такая шумливая! Он отвечал твердым взглядом: ну и что же, что шумливая? Человек болеет за дело. Как вы думали: пропали исторические ценности, не шутка! Давайте же приложим все усилия для раскрытия этого кошмарного преступления!
Все-таки, когда Зоя выдала слишком уж пронзительную руладу, он не выдержал: подошел, поглядил по голове:
— Зоюш! Ну не надо, Зоюш. Разве же слезами горю поможешь? Надо смотреть, думать, искать…
— Это что же такое?! — душераздирающе закричала невеста. — И ты… ты!!! Весь мир против! Лучше убейте, убейте сразу-у!! Е-е-е!..
— Да ты что! — отшатнулся лейтенант. — Я совсем не против. Я наоборот… а, что толковать! — он махнул рукою, и выскочил из музея. Там на ступеньках крыльца сидел старый маловицынский опер, а теперь отставной майор милиции Федор Иваныч Урябьев.
— Скажите, Федор Иваныч, — обратился Вася к будущему тестю. — Чего она орет, будто случилось самое страшное несчастье в ее жизни?
— Потому и орет, что настоящего горя не знала. Вы не мешайте, пусть выплачется.
— Вы думаете — это необходимо, чтобы каждый конкретно через настоящее горе прошел?
— Смотря как его понимать… Эх, да не тем у тебя, Василий, мозги заняты! Вот что лучше скажи: нашли чего-нибудь?
Верно сказано: что рассуждать о каком-то там горе, когда работа стоит! Тем более, что и горе-то было не за горами. И для Васи, и для Зои, и для самого Федора Иваныча. И не какое-нибудь там, — а самое что ни на есть настоящее…
— Нет, глухо… Вообще чепуха, непонятно: какая-то картина, булава этого борца за народное счастье… Сколько он ею, интересно, черепушек тому народу расколол?
— Опять отвлекаешься. Скажи прямо: есть улики? Отпечатки, то-се?..
— Все по нолям. На стенах ничего конкретного нет, стекло на стенде разбито твердым предметом. На полу — тоже бесполезно. Лийка колупается, шебуршит, да видно же — бесполезно.
— А Гильза?
— Роса же пала. Кинулась сначала к пруду, потом — на центральную улицу, с нее — в милицию. Смех, ей-богу! Она, скорее всего, по нашему следу шла, только в обратную сторону.
— Х-хехх… Бывает. Сам-то ты как?..
— Прямо с ума сойти. Разве к Рататую наведаться: он все ворье контролирует. Я звонил домой, сказали — спит еще. Но с охранником перемолвился — так он меня на смех поднял. Музей, мо, народное достояние — кто же из наших на него руку поднимет? Для нас, мо, власть, культура, история — тоже слова непростые, мы общественым мнением тоже дорожим… Так что ищите, мо, среди залетных, бродяг, алкашей отпетых, кому уж совсем все до балды. В-общем, мнение такое: пьянь беспросветная. Залез по дури, схватил, что под руку попалось, и — аля-улю! Очнулся, заховал все, или утопил, сидит теперь, трясется… Ну как нам на него выйти, скажите? Если он такой неконкретный. Нет, это висяк.
— Может быть, может быть… Но вот что объясни, милок: ведь тут и сигнализация была! С ней-то как быть? Ее недавно меняли, мне Зойка хвасталась!
— Всему можно найти объяснение, — Вася почесал затылок. — Мало ли что… В-общем, разговор наш тоже неконкретный: сейчас что угодно можно предположить. Сигнализация… ну что сигнализация? Ведь и алкаши не всегда алкашами были. Чему-то учились, чего-то кумекали: среди них и хорошие специалисты попадают, сами знате! Будем искать. Что можем — сделаем. По криминалу пройдусь, агентов поспрошаю, с шоферами потолкую: не подвозили ли залетных, — в оперативной работе новых методов не изобрели, в ней как было все конкретно, так и осталось. Жалко Зоюшку, конечно… ну, так что же поделаешь! Перепилит она теперь мне шею…
— Ничего, потерпишь, — хмыкнул Урябьев.
Вася покинул крыльцо, свернул за угол, — улетел по своим делам. А отставной майор отправился в музейный зал, профессионально фиксируя обстановку.
Там шла ревизия: Зоя с заведующим отделом культуры сверяли наличие экспонатов. Тут еще много было бумажной работы: опись, акт…
— Портрет Вани Охлобыстина, повторившего подвиг Павлика Морозова, его биография и описание геройского поступка, — зачитывала Урябьева по каталогу.
— Да… номер… номер сорок третий… есть!
Толстый палец завотделом ткнул в старательно выписанное неведомым художником лицо крулолицего мальчика с горящим взглядом, галстуком на шее. «Э… — подумал старый оперативник. — Пустозвоны…».
Никогда Ваня Охлобыстин не был пионером, и не совершал подвига Павлика Морозова. Это Федор Иваныч знал точно: он много раз бывал в той деревне, и от верных людей знал всю подноготную кровавой истории.
Это было в декабре 1936 года, как раз после принятия Сталинской Конституции. Отец с матерью уехали празновать Николин день в другую деревню, а двенадцатилетнего Ваньку оставили дома одного: хозяйничать, смотреть за скотиной. Он с утра бегал с ребятами, вернулся к обеду, смотрит — изба отперта, следы к крыльцу, на крыльце. Ваня смело (бояться он еще не умел) зашел в дом, увидал открытый голбец, шумнул: «Э, кто тамока озорует? Ну-ко вылезай!» Вылез дядька Тимоха в заплатанном зипуне, с мешком картошки. Мамкин брат — как раз из деревни, куда уехали мать с отцом. «Я, Ваня, — сказал он, — у тятьки с мамкой спросился. Они наказали: ступай, мо, возьми. Прибежал — а тебя и след простыл. Да-ко, думаю, нагребу пока…». «Ну дак бери! — отозвался шустрый пацан. — Раз велели. — И тут же заметил ехидно: — Как ты так живешь, дядя Тимоша? Ищо Рождество не настало, а ты уж картошку займовать побежал. Свою надо было ростить». Тот потемнел лицом, однако ничего не ответил: вылез, закрыл голбец, и пошел из избы, волоча мешок. Закрылась дверь; немного погодя мальчик услыхал какое-то шебуршанье из сеней. Выглянул — дядька Тиимоха выгребал зерно из сусека и ссыпал в другой мешок. «Ну-ко перестань! — крикнул парнишка. — Иди давай! При тятьке с мамкой приходи! Убирайсь!» — «Умолкнешь ли ты, гаденыш! — отвечал дядька, распрямляясь. — Запади, сморчок!» Он взмахнул рукою, и острым топором ударил Ваню по голове. Потом рубанул еще раз — для верности — и потащил тело в огород. Там закидал его снегом, вернулся в избу. В те времена главным показателем справного хозяйства были в сельской местности две вещи: самовар и швейная машина. У Охлобыстиных имелось и то, и другое; убийца выбрал машину; запихал ее в мешок, и покинул избу родной сестры.