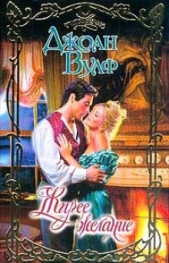Футбол 1860 года

Футбол 1860 года читать книгу онлайн
В двадцать три года Кэндзабуро Оэ получил спою первую литературную премию, а с ней и признание. Свыше шестидесяти произведений Оэ переведено на многие языки мира, и том числе и на русский. Наиболее известны его романы «Футбол 1860 года», «Объяли меня воды до души моей», «Игры современников» и другие. Сейчас Оэ, лауреат Нобелевской премии 1994 года, — самый известный и титулованный писатель Страны восходящего солнца. Его произведениям, повествование в которых порой разворачивается в нескольких временных пластах, присуще смешение мифа и реальности, а также пронзительная острота нравственного звучания. Не является в этом смысле исключением и и представленный в настоящем издании роман Оэ «Футбол 1860 года». Герои романа Мину и Такаси Нэдокоро. эти японские «братья Карамазовы», — люди, страстно ищущие смысл жизни и в своих порывах совершающие саморазрушительные поступки, ведущие к духовной и физической смерти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Проводи меня, Мицу, до амбара и побудь со мной, пока я не засну, — попросил он.
Когда мы выходили из кухни во двор, жена, будто навсегда прощаясь с Такаси, воскликнула:
— Така, почему ты не хочешь спасти себя?! Мне даже кажется, что ты специально добиваешься, чтобы тебя линчевали или приговорили к смерти и казнили.
Такаси ничего не ответил, замкнув в неприветливости свое покрытое гусиной кожей грязное лицо, в котором не было ни кровинки. Он вел себя так, будто жена не интересовала его ни в малейшей степени. И я по совершенно непонятной причине почувствовал, что мы с женой точно побитые собаки. Я обернулся — она сидела понурившись, неподвижно. И юноша возле нее застыл в неестественной позе, как зверь, парализованный отравленной стрелой. По приказу Такаси он сразу же целиком отдал себя действию снотворного. Всей душой желая, чтобы у жены было припрятано хоть сколько-нибудь виски, которое даст ей силу встретить эту отвратительную, бесконечную, холодную ночь, я, дрожа всем телом, шел за братом по двору, освещенному фонарем над входом. Он тоже сильно дрожал и пошатывался. В сарае отшельник Ги чихал, как простуженная собака. Из темного флигеля Дзин не доносилось ни звука.
«Самая крупная женщина Японии», избавившись от заботы о еде, может теперь спокойно спать. Грязь и слякоть во дворе подмерзли, и идти стало легче.
Такаси, как был в испачканных кровью рубахе и брюках, залез в мою постель и, извиваясь под одеялом, точно змея в мешке, стал стаскивать носки. Потом подтянул к себе ружье и, сверкнув на меня глазами, — я стоял рядом и смотрел, как он укладывается, — попросил погасить свет. Мне и самому хотелось этого. Перепачканное лицо Такаси с запавшими, будто у старика, щеками и ввалившимися глазами, оттого что он лежал навзничь, было полно страдания и беспокойства гораздо большего, как мне помнится, чем всегда, когда он попадал в затруднительное положение. Действительно, его тело, лишь чуть-чуть топорщившее одеяло, выглядело жалким, вызывало сострадание. Я сел, поджав ноги и набросив на плечи одеяло Хосио, дожидаясь, пока на дне новой тьмы в моих глазах разрушится образ лежащего навзничь Такаси. Некоторое время мы молчали.
— Твоя жена иногда говорит правильные вещи, — сказал Такаси примирительно, желая привлечь мое внимание. — Я действительно не хочу себя спасать. Я жажду, чтобы меня линчевали или казнили, Мицу.
— Верно, у тебя, Така, сначала не хватало смелости по собственной воле совершить насилие, но, когда в результате несчастного случая создалась ситуация, весьма похожая на преступление, ты, давно дожидавшийся такого момента, сразу же воспользовался им и теперь хочешь, чтобы тебя либо линчевали, либо, приговорив к смерти, казнили. Я понимаю это только так.
Такаси молчал, вздыхая, точно побуждал меня говорить еще и еще. Но у меня не было других слов, которые бы я хотел сказать брату. От холода я весь заледенел.
— Ты собираешься, Мицу, завтра помешать этому? — после долгого молчания спросил Такаси.
— А разве это не естественно? Правда, я не знаю, удастся ли мне помешать твоему плану самоуничтожения, в котором ты зашел уже слишком далеко.
— Мицу, я хочу тебе кое-что рассказать. Хочу рассказать тебе правду, — неуверенно, даже смущенно начал Такаси, точно сомневаясь, что я восприму его слова достаточно серьезно, и в то же время с каким-то облегчением. Но они, больно ударив меня, отскочили эхом.
— Я не хочу слушать. Не рассказывай мне! — решительно воспротивился я, стремясь избежать воспоминаний о разговоре с Такаси о правде.
— Нет, Мицу, я расскажу! — униженно молил Такаси, что еще больше подхлестнуло мое желание уйти от этого разговора. Я вздрогнул от его обреченного голоса, голоса человека, пораженного в сердце. — Услышав мой рассказ, Мицу, ты хоть будешь вместе со мной, когда тебе придется смотреть, как меня линчуют.
И я вынужден был отказаться от мысли заткнуть ему рот. А сам он, раньше чем начать свой рассказ, устало и безнадежно вздохнул, будто уже рассказал мне все и теперь раскаивается, но все же, преодолев внутреннее сопротивление, начал:
— Мицу, до сих пор я говорил, что не знаю, почему покончила с собой наша сестра, в этом мне помогли дядя и вся его семья — они тоже говорили, что причина самоубийства неясна. Это и позволило мне скрыть правду. Собственно, можно сказать, что никто по-настоящему меня и не расспрашивал. А сам я молчал. Лишь однажды я рассказал все в Америке совершенно случайному человеку — негритянке-проститутке, да и то на ломаном английском языке. Для меня говорить по-английски все равно что надеть на себя маску, так что мой разговор с негритянкой равносилен тому, что я никому ничего не рассказывал. Это было псевдопризнание, и возмездием мне послужила лишь легкая венерическая болезнь. На языке, которым владела сестра и владеешь ты, Мицу, я ни разу никому об этом не говорил. Ничего, разумеется, не рассказывал я и тебе. Правда, мне казалось, что в связи со смертью сестры у тебя возникли какие-то подозрения и ты беспокоился, предполагая, что тут не все в порядке. Вспомни тот день, когда ты ощипывал фазанов, — ты спросил меня, не сестра ли как раз и есть та правда, о которой я говорю. Мне показалось тогда, что ты знаешь все и просто издеваешься надо мной, от злости и стыда я был близок к тому, чтобы тебя убить. Но мне все же удалось взять себя в руки — я сообразил, что ты просто не можешь ничего знать. В то утро, когда сестра покончила с собой, я, прежде чем сообщить об этом дяде, облазил все уголки во флигеле, где мы жили с сестрой, в поисках ее письма, которое могло посеять семена подозрения. Потом с чувством облегчения я смеялся и плакал, освободившись от сжимавшего грудь страха, одновременно чувствуя себя преступником. И только после того как мне удалось подавить приступ душившего меня смеха, я пошел в дом к дяде, чтобы сообщить о самоубийстве сестры. Она умерла, выпив яд. Почему же я почувствовал такое облегчение, убедившись, что сестра покончила с собой, не оставив никакой записки? Потому что я всегда боялся, чтобы сестра — ты ведь знаешь, она была неполноценной — не раскрыла нашу тайну. И я успокоился, воображая, что смерть сестры перечеркнет тайну, будто ее вообще не существовало. Но действительность оказалась иной. Все вышло наоборот. Смерть сестры привела к тому, что тайна пустила глубокие корни в моем теле и душе, стала властвовать над моей жизнью, отравлять ее. Это произошло, когда я кончал школу, и с тех пор воспоминание о случившемся разрывает меня на части. — Произнеся это, Такаси разразился хриплыми рыданиями, видимо надеясь, что воспоминание о его плаче ввергнет меня в ловушку времени, которая сломит мой дух, и оставшийся кусок жизни мне будет невероятно трудно прожить.
— Сестра, хоть и неполноценная, была человеком но-настоящему своеобразным. Она очень любила красивые звуки и, лишь слушая музыку, бывала счастлива. Зато шум авиационного или автомобильного мотора заставлял ее страдать так, будто ей в уши вставили горящие головешки. Я думаю, она действительно испытывала боль. Ведь от колебаний воздуха может треснуть даже стекло, верно? Боль в ушах была такая, что едва не лопались барабанные перепонки. В деревне у дяди не было никого, кто бы понимал и чувствовал музыку, как сестра, кому бы она была так жизненно необходима, как ей. Сестра была не безобразна и очень чистоплотна. Необычайно чистоплотна. Особенность ее болезни и заключалась в этом, так же как и в безграничной любви к музыке. Среди молодых ребят в дядиной деревне были и такие, кто приходил подсматривать, как сестра слушает музыку. Стоило раздаться первым звукам — сестра вся обращалась в слух, остальное переставало для нее существовать, не проникало в ее сознание. Подсматривающие были в полной безопасности. Но стоило мне их обнаружить, я приходил в исступление, готов был буквально убить их. Для меня сестра была воплощением женственности, и я считал своим долгом охранять ее. Я совершенно не обращал внимания на девушек из дядиной деревни, а когда начал учиться в соседнем городе, то за все время не сказал и двух слов со своими одноклассницами. О нас с сестрой я сочинил даже что-то вроде баллады, гордясь тем, что после прадеда и его брата только мы двое способны поддержать славу нашего рода. Если разобраться, то можно понять, что все это было следствием комплекса неполноценности — оттого что мы с сестрой жили нахлебниками в доме дяди. Я поучал сестру: мы избранные, особые люди, мы должны жить только друг для друга, а посторонние не могут и не должны нас интересовать. Стали даже распускать слух, что мы с сестрой якобы спим вместе. Я мстил, забрасывая дома этих людей камнями. Но эти слухи послужили для меня толчком. Я ведь был семнадцатилетним мальчиком, слабым одиночкой, неспособным противостоять таким намекам.