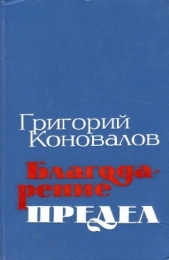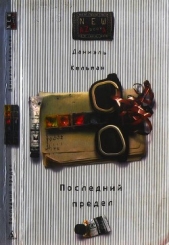Кислородный предел

Кислородный предел читать книгу онлайн
Новый роман Сергея Самсонова — автора нашумевшей «Аномалии Камлаева» — это настоящая классика. Великолепный стиль и чувство ритма, причудливо закрученный сюжет с неожиданной развязкой и опыт, будто автору посчастливилось прожить сразу несколько жизней. …Кошмарный взрыв в московском коммерческом центре уносит жизни сотен людей. Пропадает без вести жена известного пластического хирурга. Оказывается, что у нее была своя тайная и очень сложная судьба, несколько человек, даже не слышавших никогда друг о друге, отныне крепко связаны. Найдут ли они эту загадочную женщину, или, может, ей лучше и не быть найденной? Проникновенный лиризм, тайны высших эшелонов власти и история настоящей любви — в этом романе есть все, что может дать только большая литература!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Легче было сказать, чем это чувство не являлось:
— прямой сексуальной агрессией, стандартно-приземленной похотью, восхищенным присвистом — «вот это цыпа!» — с поспешно-плутоватым обшариванием ног, фигуры маслянисто заблестевшими глазками;
— цыганщиной, карменщиной с солоноватым привкусом банальной рифмы, лязганьем ножей, неотвратимостью острога;
— согласием приобрести ее в гарем среди других красоток на последней распродаже;
— приятной изумленностью лошадника, мужчины-коллекционера (хотя последнее, возможно, и примешивалось, но эти ценители — на то и «теоретики» — дистанции не нарушали);
— бескорыстным умилением повадками ребенка, опасным вожделением девианта к женщине особого типа (которая до тридцати по меньшей мере не теряет прелести Лолиты).
Нет, Зоя не была вот этой пошловатой «роковой», толкающей на преступление, предательство Отчизны, на погибель; не той, к ногам которой швырялись бы без устали купеческими лапами бриллианты, словно уголь в топку; не той, которая вила из мужиков веревки, тем самым получая доказательство своей онтологической как будто даже состоятельности: влеку, помыкаю, царю, а стало быть, и существую. Приставь какой-нибудь классический, довольно широко распространенный психопат холодный пистолет к виску — мол, прикажи, лишь слово молви, и я труп, — то Зоя бы, во-первых, испугалась такого пошлого идиотизма, а во-вторых, сказала бы, что перепутан жанр: вот эта мелодрама темной страсти, эпилептических припадков, клюквенных фонтанов, извините, сто двадцать тысяч раз не про нее. И красота была тут ни при чем: сличая тайный, тихо бьющийся лишь на обратной стороне мартыновских век образ Зои со снимками стереотипных, общепринятых красавиц, Нагибин соглашался, ответственно, «как доктор», мог сказать, что с ними никакого сравнения византийка не выдерживает — те, общепринятые, обладали мощью и даже массой красоты, которая несокрушимо перла, как танк со всеми современными обвесками, а вот о Зоином очаровании как бы надо было догадаться. Вот только не один Мартын такой на свете уникум: разгадку сущности Палеолог — и это несомненно — знали многие. Не понимая, не умея облечь непогрешимо-верного предположения в слова, неподотчетно чувствовали. Как этот парень, проповедник Зонного приватного бессмертия, — Сухожилов.
— …Ну, хорошо, давай логически, по пунктам, без чудес, — захватчик все не унимался. Без нашей, извини, мистической с ней связи. В больницах нет. Есть тридцать человек официально, женщин, их мы видели. И что? В мертвецких надо шарить — это вывод? Отнюдь! Другой, другой тут вывод! Она — где-то ходит, разгуливает, у кого-то, возможно, живет. Атак! Запросто! Ее из номера, из ванной той достали, и после этого она сама ушла, ножками!
— Откуда ушла? Из больницы?
— Хотя бы из больницы — нет-то почему?
— Ты как себе все это представляешь — из больницы? Бред! Да и как она может, куда? Вот же мы — я, отец. Или ты намекаешь?..
— Именно, да, — Сухожилов постучал костяшками по лобной кости. — Сдвиг по фазе, шарики за ролики. Шок, помешательство. Ты ж видел пострадавших — половина с этим же самым. И что угодно тут. Сама ушла. Или увел кто — тоже может быть. Ну, представляй, включай фантазию; жизнь, она тоже сплошь и рядом без фантазий не обходится. Ну вот представь: как только ее вытащили, вот прямо от гостиницы ушла, исчезла в неизвестном направлении. Скажешь, фантастика? Смотри, вот мы — Подвигин, я, десятки человек, которые там были… мы вышли, выпали, счастливчики, других таких же вынесли, и что? Нам руки — ноги всем ощупали, и все — валите, если целы. И все, нас нет официально. Нигде не числимся как жертвы. Духи, призраки, таких десятки человек. Живых, на собственных ногах, вот только крыша малость набекрень. Там что потом в районе было? Хулиганские выходки, вспышки сексуальной агрессии. А кто устраивал-то? Мы. Потом по домам разошлись, кто в себе. Ну а кто не в себе? Ну? Где тут чудо? На правду все похоже, не находишь?
— Да видел мужиков и баб оттуда. У всех аварийные глаза.
— Вот! Вот! Я, конечно, не Минздрав в отличие от некоторых, я не знаю достоверно, что там может с головой в подобных случаях, но, по-моему, и мать родную можно позабыть. Так что ты погоди в мертвецких.
— И это значит, кто угодно что угодно может с ней?
— Ну да. И это тоже в голову приходит.
В этом мире на нее существовал дичайший перманентный голод, здесь каждая вывеска, каждый билдборд, каждый плазменный экран ненасытно вожделели ее, хотели вобрать без остатка. В конце концов, именно на такой естественности, на святой непредумышленности каждого телодвижения, на безгрешности импульса, на спонтанности порыва и держится, пытаясь неуклюже их копировать, вся современная реклама, в которой какая-нибудь девочка-русалка «в платьице простом» подносит к ненакрашенным губам бутылку с родниковой или арктической водой, с очередным эрзацем чистого, артезианского, кристального, беспримесно природного, незамутненно натурального.
Каждый будто компенсировал себе общением с Зоей удушающую нехватку настоящего. А она, как и свойственно всему «натуральному», не ведала о собственной бесценности ничего и безвозмездно раздавала свою подлинность населенному фальшивками миру.
— Идет такой вот человек, сомнамбула… — настаивал все Сухожилов. — И что? Брезгливость, страх и жалость — вот реакция, и люди отвернутся от нее, а кто-то возьмет и тупо отведет в ментовку. А там вопросы — кто, откуда и так далее.
— А это новые больнички, которые за кругом наших поисков.
— Конечно. Дурки.
— Какие-то приюты, отстойники для этих самых, кого никто не ищет. Ну да, там кругом пьянь и рвань, бациллы, вши — вот это все, но это не фатально, так? Я просто удивляюсь, как я сразу об этом не подумал. А это было б вероятнее всего. Что просто мир огромный и Москва большая.
Нагибин ощутил мучительное расширение своего личного бытия — сродни тому, какое испытал в том сне, в котором он рожал Палеолог, был первым в мире беременным мужчиной; вся разница была лишь в том, что вместо прежней острой и пронзительной всепоглощающей радости из него рвались тревога, боль и страх. Очерченная четко, словно операбельная опухоль, область нагибинских поисков и в самом деле разогромилась в мир; Нагибин взмыл, завис над прорвой Москвы; сведенный к одному исполинскому оку, превратившись в зрение, охватил лежащую внизу топографию улиц, домов, площадей, наводненных огнями проспектов. Мысленным усилием он мог добиться, вызвать скрупулезную деталировку каждого района, каждого отрезка трассы, каждого дворового колодца, добиться миллионнократного увеличения до каждого отдельного окна; сознательным волением он мог увидеть словно сами клеточные — окрашенные гематоксилином — структуры столицы; сперва он приказал себе увидеть перильстатику центральных старых переулков с трепещущей голубоватой точкой уже не Зонной ничтожной галерейки, затем он сфокусировал внимание на кариозном, сгнившим зубе коричневого «Swiss-отеля», а после страх заставил сфокусировать внимание на Павелецком, Курском и Казанском, неподконтрольно потянул Мартына в круглосуточную кипень вот этих всех вокзалов и почему-то развернул, раскрыл перед Нагибиным функционально-типовые внутренности серебристых, стерильно-вылизанных аэропортов, как будто византийку кто-то мог похитить, вывезти, как в жутком, никогда не принимаемом за правду бреде криминальных телепередач о заграничном сексуальном рабстве русских женщин.
Не веря ни во что, Нагибин допускал любое. Несоразмерность личного пространства Зои и пространства мира, которую он прежде рассматривал лишь умозрительно, стала реальностью. Упрямой однозначности исхода, предрешенности результата, на которых он, Нагибин, так настаивал, не было и в помине; варианты Зоиной участи размножались делением, черные дыры вокзалов и типовые окна круглосуточных аэропортов беспрестанно пропускали сквозь себя — как будто с того света на этот — сплошную, проточную, мутную человеческую жизнь, и Нагибину, как в детстве, на секунду глупо захотелось, чтобы в этом городе отключили электричество и убили всех, кроме Зои. Другого варианта рассмотреть любимые черты ему не представлялось.