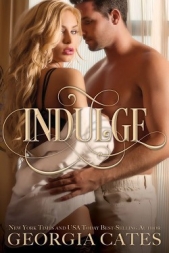Новый Мир ( № 4 2006)
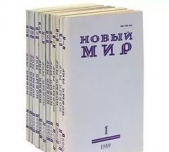
Новый Мир ( № 4 2006) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Люди Платонова, особенно если их много собралось вместе, как народ джан или чевенгурцы, — как эта Эвридика. Тела чевенгурских женщин ничем не отличаются от ее души: “Эти женщины не имели молодости или другого ясного возраста, они меняли свое тело, свое место возраста и расцвета на пищу, и так как добыча пищи для них была всегда убыточной, то тело истратилось прежде смерти и задолго до нее; поэтому они были похожи на девочек и на старушек — на матерей и на младших невыкормленных сестер; от ласк мужей им стало бы больно и страшно. Прокофий их пробовал во время путешествия сжимать, забирая в фаэтон для испытания, но они кричали от его любви, как от своей болезни”. Тела женщин — только повод к отрешенности: “Поверх кожи для женщины начинался чужой мир, и ничто из него ей не удавалось приобрести, даже одежды для теплоты и сбережения тела как источника своей пищи и счастья других”.
Это отрешенное тело — пречистое тело, годное для евхаристии, как тело умирающего мальчика нищенки: “Мальчик сначала забылся в прохладе покойного сна, а потом сразу вскрикнул, открыл глаза и увидел, что мать вынимает его за голову из сумки, где ему было тепло среди мягкого хлеба, и раздает отваливающимися кусками его слабое тело, обросшее шерстью от пота и болезни, голым бабам-нищенкам. „Мать, — говорит он матери, — ты дура-побирушка, кто ж тебя будет кормить, на старости лет? Я и так худой, а ты меня другим подаешь!””
И если тело свято, то одинаково свято живое тело и мертвое. Живые и мертвые у Платонова равны. “Мертвые тоже люди”, — говорит его персонаж Чиклин, который “и в чужом и в мертвом человеке чувствовал кое-что остаточно-теплое и родственное, когда ему приходилось целовать его или еще глубже как-либо приникать к нему”.
Мертвые тела любовно и тщательно сохраняют, даже не в надежде на воскресение, но ради той части жизни и любви, которая всегда остается в теле, даже мертвом, как может сохранять ребенок давно лопнувший любимый шарик, который для него не исчез и не умер, а испортился, стал некрасивым, но от этого еще любимее и жальче. Человек, не тронутый сутью телесности, назовет это сентиментальностью: “Захар Павлович хотел сохранить Александра в таком гробу — если не живым, то целым для памяти и любви; через каждые десять лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним”. Или: “В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтобы она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли. Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне и приготовил еще особую, в виде крышки, гранитную плиту, дабы на девочку не лег громадный вес могильного праха”.
Видимо, это — самое древнее, доритуальное отношение к телам умерших, которое и позволило возникнуть ритуалу и всегда оставалось среди крестьян, удивляя горожанина, если ему вдруг приходилось с ним сталкиваться. Как это происходит, например, в стихотворении Вордсворта “Нас семеро” (“We Are Seven”). В годы революции, когда умерших перестали отпевать, они как бы не становились вполне умершими, от жизни и смерти снова стали ждать чудес: если матери хочется, чтобы ее ребенок пожил еще минуту, то почему бы и нет: “„Да ведь он кончился, чего ты его беспокоишь?” — спросил Копенкин. <...> „Одну минуту пожить сумеет, раз матери хочется: жил-жил, а теперь забыл! Если б он уже заледенел либо его черви тронули, а то лежит горячий ребенок — он еще внутри весь живой, только снаружи помер””.
Из этих нежных дикарских чувств и был забальзамирован Ленин, а не по злому умыслу, как теперь многие думают.
Через мертвое тело осуществляется связь с остальным миром — миром неживых предметов, которые от этой связи становятся отдельной формой жизни: “Пусть хранят ее здесь разные мертвые предметы. Мертвых ведь тоже много, как и живых, им не скучно меж собой” — и с животным миром: “длинные обнаженные ноги (умершей. — Е. Ч. ) были покрыты густым пухом, почти шерстью, выросшей от болезней и бесприютности, — какая-то древняя ожившая сила превращала мертвую еще при ее жизни в обрастающее шкурой животное”.
Все теряет какие бы то ни было различия и объединяется по единственному признаку существования. Это неразличение — конца времен, когда лев рядом с агнцем и все такое. Когда все время, весь остаток времени сосредоточен в общем едином теле, теплая нога коня по какой-то предсмертной метонимии — часть тела возлюбленной, и расстрел буржуев похож на оказание помощи при родах. Теплота — связующее качество этого единого тела, тепло испытывает доверие к теплу: лоб Дванова — к руке Никитка, запустившего в него пулю. Любовь — тоже соседство теплоты двух тел, и у людей и у животных: “баран закричал и повернул голову в пустое направление степи. Он давно жил среди овец и бывал как муж внутри тех мертвых, которые теперь лежали — он знал худобу их костей и теплоту цельного смирного тела”. “Не пугайся, — сказал ему привалившийся человек. — Я озяб во сне, вижу, ты лежишь, — давай теперь обхватимся для тепла и будем спать”. В среде такой теплоты деятельность — любая, конечно же — должна стать бесполезной, хотя бы потому, что любая нововыработанная энергия будет излишеством в этом конце истории, где, “как в теплом животе”, могут “вконец дозреть и уж тогда целиком родиться” даже “недоношенные” чевенгурские жены. Бесполезное действие — форма мысли о другом человеке, тоже — вполне в традиции местности, как бесполезный граф на пашне: не урожая ради, но мысли о крестьянине.
Совокупное тело имеет свою анатомию, состав, выбирает законы природы, которым ему подчиниться, у него свои уязвимые места. Основные места незащищенности — голова, шея, живот. Живот уязвимее по отношению к остальному телу настолько, насколько уязвимее, видимо, живот ежа в сравнении с его колючей спиной. Материал — “вещество”. Вещество, живое или мертвое, движет, питает, производит, составляет тело, еда тоже вещество и часть тела, рассеянного в природе. Часто у мертвых вещества в избытке: “...на его дороге лежал опрокинутый человек. Он вспухал с такой быстротой, что было видно движение растущего тела <...> Скоро человек возрос до того, что Дванов стал бояться: он мог лопнуть и брызнуть своею жидкостью жизни, и Дванов отступил от него; но человек начал опадать и светлеть — он, наверное, уже давно умер, в нем беспокоились лишь мертвые вещества”; живым же тела, как правило, не хватает: “Айдым была мала, как пятилетняя, и кости ее были обтянуты бледно-синей пленкой, не имевшей никогда достаточной упитанности, чтобы превратиться в настоящую кожу”.
Растения тоже состоят из вещества и имеют ту же анатомию, что люди и животные: “Лопух она сорвала за то, что у него была белая исподняя кожа”.
Силы у тела очень мало, поэтому ее направляют туда, где она сию минуту важнее, то же — с умом: “Поешь, — отдал он хлеб, — пусть твой ум обращается в живот, а я без тебя узнаю, чего хочу”.
Самый важный для тела закон — движение: “...он вспомнил про одно чтение научной книги, что от скорости сила тяготения, вес жизни и тела уменьшается, стало быть, оттого люди в несчастии стараются двигаться”. По принципу движения, а не состава человек больше похож на коня, чем на дерево, и в силу этого чевенгурский пешеход Луй “предложил ревкому немедленно стронуть Чевенгур в даль. „Надо, чтобы человека ветром поливало, — убеждал Луй, — иначе он тебе опять угнетением слабосильного займется либо само собою все усохнет, затоскует — знаешь как? А в дороге дружбы никому не миновать — и коммунизму делов хватит””.
“Тело” — одно из наиболее частотных слов у Платонова. Если бы тело могло быть категорией, его можно было бы назвать категорией философии Платонова, но тело может быть только телом, ни философской вещью, ни даже философским камнем. Оно есть философское тело Платонова. Тело — все, что остается человеку в коммунизме для любви и дружбы, это все, что было у “прочих” и что остается у “буржуя” без имущества и с пулей внутри: “Чекист понял и заволновался: с пулей внутри буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули любили одно имущество”.