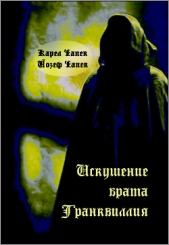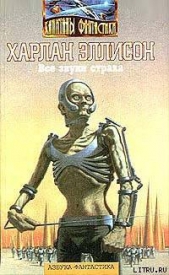Малоизвестный Довлатов. Сборник

Малоизвестный Довлатов. Сборник читать книгу онлайн
В книгу вошли неизвестные широкому читателю произведения Сергея Довлатова, его письма к друзьям, воспоминания о нем приятелей, фотографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За шесть лет в Америке мне довелось работать с несколькими переводчиками, причем весьма квалифицированными, совместно мы разрешили множество лингвистических проблем, вышли из множества словесных тупиков, но слово «халтура» по-прежнему вырастает каждый раз перед нами как непреодолимое препятствие. Я достаточно много с ним провозился, чтобы утверждать: такого слова или даже близкого к нему понятия в английском языке — не существует. Есть слово «трэш», что значит — мусор, дрянь, отход. Это слово употребляется по отношению ко всякому барахлу, к бездарным развлекательным пьесам, к примитивным коммерческим романам или аляповатым художественным полотнам. Есть слово «бэлони», что означает — ерунда, чушь, пакость. Есть выражение «чип-стаф», то есть — дешевое исполнение, дешевка, бросовый товар. А вот слово «халтура» в том значении, в каком употребляем его мы, бывшие советские граждане, в Америке не существует.
Означает ли это, что здесь, в Америке, нет рвачей или лентяев, олухов или тупиц, что никто здесь не нуждается в дополнительных заработках или не трудится спустя рукава? Ни в коем случае. Есть здесь, конечно, и рвачи, и лентяи, и бездельники, не говоря о тупицах, а слова «халтура» — нет. Более того, я вынужден прибегнуть к парадоксальной формулировке: «халтурщики» в Америке есть, а слово «халтура» в американском лексиконе — отсутствует. Как же так?
Прислушайтесь, с каким выражением, с какой интонацией употребляет это слово российский мастеровой, художник-штукарь, или писатель, устремившийся в погоню за длинным рублем, то есть любой человек, занимающийся сознательной халтурой. Вы не увидите на его лице ни следов раскаяния, ни ощущения вины, ни гримасы стыда. Он говорит о своей халтуре с веселой гордостью, торжеством и подъемом, как будто идет на штурм мирового рекорда по штанге. Ведь ему предоставляется шанс, счастливая возможность обмануть государство (а иногда и своего знакомого), урвать шальные деньги, бессознательно отомстить неведомым высоким инстанциям за свое нищенское существование. Поэтому советский халтурщик избавлен от комплексов, он весел и счастлив, как жаворонок.
В Америке тоже, как я убедился, хватает бездельников, хапуг и всяческих тунеядцев, но у них нет решительно никакой возможности торжествующе о себе заявить. Американский рвач, хапуга и бездельник может работать нерадиво, поспешно, но рано или поздно хозяин это заметит, вышвырнет лентяя с работы или резко сократит его жалованье. Американскому халтурщику не до смеха, он всеми силами старается быть похожим на добросовестного, квалифицированного работника.
Означает ли это, что в Америке нет дрянной мебели и посуды, безвкусной одежды, ненадежных телевизоров и магнитофонов, разваливающейся обуви? Все это есть, и, увы, в неограниченном количестве.
Вы заходите, скажем, в магазин радиотоваров. Перед вами стереоустановка за 800 долларов, сделана в Японии или в Западной Германии, а рядом проигрыватель за сотню, изготовленный в Гонконге. И по цене и по марке Гонконга вам становится ясно, что это — типичный «чип-стаф», дешевка, бросовый товар. Такой агрегат может приобрести школьник или бедная старушка, но вам, поклоннику Бетховена и Моцарта, он не подходит. Значит, надо выложить 800 долларов или дождаться головокружительной распродажи, а иначе вы станете владельцем дешевой, ненадежной, хрупкой вещи. Это — «чип-стаф», но это не халтура в том значении, которое мы привыкли вкладывать в это слово.
И так — во всем: в сфере торговли, обслуживания, в области культуры. Вас никто не обманывает, вы видите цену, вы видите марку, а значит, вы можете судить о качестве. Должен заметить, что подлинное качество в Америке стоит не дешево, но именно этот расход, как никакой другой, себя оправдывает.
Что же касается трудностей литературного перевода, то в следующий раз, напоровшись на слово «халтура», я предложу переводчику сделать такую беспомощную сноску:
«Загадочное, типично советское, неведомое цивилизованному миру явление, при котором низкое качество является железным условием высокого заработка».
Это непереводимое слово — «хамство»
Рассказывают, что писатель Владимир Набоков, годами читая лекции в Корнельском университете юным американским славистам, бился в попытках объяснить им «своими словами» суть непереводимых русских понятий «интеллигенция», «пошлость», «мещанство» и «хамство». Говорят, с «интеллигенцией», «пошлостью» и «мещанством» он в конце концов справился, а вот растолковать, что означает слово «хамство», так и не смог.
Обращение к синонимам ему не помогло, потому что синонимы — это слова с одинаковым значением, а слова «наглость», «грубость» и «нахальство», которыми пытался воспользоваться Набоков, решительным образом от «хамства» по своему значению отличаются. Наглость — это в общем-то способ действия, то есть напор без моральных и законных на то оснований, нахальство — это та же наглость плюс отсутствие стыда, что же касается грубости, то это скорее — форма поведения, нечто внешнее, не затрагивающее основ, грубо можно даже в любви объясняться, и вообще действовать с самыми лучшими намерениями, но грубо, грубо по форме резко, крикливо и претенциозно.
Как легко заметить, грубость, наглость и нахальство, не украшая никого и даже заслуживая всяческого осуждения, при этом все-таки не убивают наповал, не опрокидывают навзничь и не побуждают лишний раз задуматься о безнадежно плачевном состоянии человечества в целом. Грубость, наглость и нахальство травмируют окружающих, но все же оставляют им какой-то шанс, какую-то надежду справиться с этим злом и что-то ему противопоставить.
Помню, еду я в ленинградском трамвае, и напротив меня сидит пожилой человек, и заходит какая-то шпана на остановке, и начинают они этого старика грубо, нагло и нахально задевать, и тот им что-то возражает, и кто-то из этих наглецов говорит: «Тебе, дед, в могилу давно пора!» А старик отвечает: «Боюсь, что ты с твоей наглостью и туда раньше меня успеешь!» Тут раздался общий смех, и хулиганы как-то стушевались. То есть — имела место грубость, наглость, но старик оказался острый на язык и что-то противопоставил этой наглости.
С хамством же все иначе. Хамство тем и отличается от грубости, наглости и нахальства, что оно непобедимо, что с ним невозможно бороться, что перед ним можно только отступить. И вот я долго думал над всем этим и, в отличие от Набокова, сформулировал, что такое хамство, а именно: хамство есть не что иное, как грубость, наглость, нахальство, вместе взятые, но при этом — умноженные на безнаказанность. Именно в безнаказанности все дело, в заведомом ощущении ненаказуемости, неподсудности деяний, в том чувстве полнейшей беспомощности, которое охватывает жертву. Именно безнаказанностью своей хамство и убивает вас наповал, вам нечего ему противопоставить, кроме собственного унижения, потому что хамство — это всегда «сверху вниз», это всегда «от сильного — слабому», потому что хамство — это беспомощность одного и безнаказанность другого, потому что хамство — это неравенство.
Десять лет я живу в Америке, причем не просто в Америке, а в безумном, дивном, ужасающем Нью-Йорке, и все поражаюсь отсутствию хамства. Все, что угодно, может произойти здесь с вами, а хамства все-таки нет. Не скажу, что я соскучился по нему, но все же задумываюсь — почему это так: грубые люди при всем американском национальном, я бы сказал, добродушии попадаются, наглые и нахальные — тоже, особенно, извините, в русских районах, но хамства, вот такого настоящего, самоупоенного, заведомо безнаказанного, — в Нью-Йорке практически нет. Здесь вас могут ограбить, но дверью перед вашей физиономией не хлопнут, а это немаловажно.
И тогда я стал думать, припоминать: при каких обстоятельствах мне хамили дома. Как это получалось, как выходило, что вот иду я по улице тучный, взрослый и даже временами в свою очередь нахальный мужчина, во всяком случае явно не из робких, бывший, между прочим, военнослужащий охраны в лагерях особого режима, закончивший службу в Советской Армии с чем-то вроде медали — «За отвагу, проявленную в конвойных войсках», — и вот иду я по мирной и родной своей улице Рубинштейна в Ленинграде, захожу в гастроном, дожидаюсь своей очереди, и тут со мной происходит что-то странное: я начинаю как-то жалобно закатывать глаза, изгибать широкую поясницу, делать какие-то роющие движения правой ногой, и в голосе моем появляется что-то родственное фальцету малолетнего попрошайки из кинофильма «Путевка в жизнь». Я говорю продавщице, женщине лет шестидесяти: «Девушка, миленькая, будьте добречки, свесьте мне маслица граммчиков сто и колбаски такой, знаете, нежирненькой, граммчиков двести…» И я произношу эти уменьшительные суффиксы, изо всех сил стараясь понравиться этой тетке, которая, между прочим, только что прикрепила к своему бидону записку для своей сменщицы, что-то вроде: «Зина, сметану не разбавляй, я уже разбавила…», и вот я изгибаюсь перед ней в ожидании хамства, потому что у нее есть колбаса, а у меня еще нет, потому что меня — много, а ее — одна, потому что я, в общем-то, с известными оговорками, — интеллигент, а она торгует разбавленной сметаной…