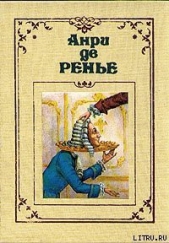Цвета дня
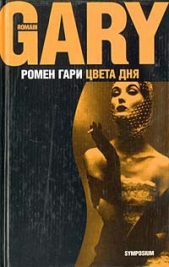
Цвета дня читать книгу онлайн
Ромен Гари (1914–1980) – известнейший французский писатель, русский но происхождению, участник Сопротивления, личный друг Шарля де Голля, крупный дипломат. Написав почти три десятка романов, Гари прославился как создатель самой нашумевшей и трагической литературной мистификации XX века, перевоплотившись в Эмиля Ажара и став таким образом единственным дважды лауреатом Гонкуровской премии. Классический любовный треугольник, иллюзорно-прекрасный средиземноморский пейзаж: Гари выбирает банальные декорации, чтобы развернуть перед нами неподдельную человеческую драму. Муж – «гений кинематографа», великий и чудовищный Вилли Боше – приглашает двух наемных убийц чтобы покарать жену, которая счастлива с другим…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– О чем вы думаете? – спросил с подозрением Ла Марн, поймав дружелюбный взгляд Ренье, наблюдавшего за группкой.
– Гай Гибсон, – проговорил Ренье. – Пэдди Файнакейн, «Моряк» Мэлейн, Мушотт, Дюперрье, Зирнхельд.
– Я куплю вам словарь арго, – сказал Ла Марн. – Твердо стоять ногами на земле, вот о чем я говорю.
– На четвереньках – еще вернее.
– Ну ладно, – сказал Ла Марн. – Немного выдержки. Педро, у тебя не найдется словаря арго?
– Нет, но у меня есть телефонный справочник.
– Де Месмон, Рокэр, Ле Калвез, Сент-Перез, Ла Пойп, Альбер, Эдзанно.
– Держите себя в руках, черт возьми, – взмолился Ла Марн. – Застегнитесь на все пуговицы. Одерните юбки. Немного стыдливости. Здесь дама. – Он галантно повернулся к девице: – Извините его, мадемуазель. Он не умеет жить. Свинья.
– Ну и расшумелись эти двое, – сказала девица.
Педро наблюдал за ними своими серьезными печальными глазами.
– Зачем вы туда едете? – спросил он.
– Это не я, это он, – стал защищаться Ла Марн. – Я отправляюсь туда не по убеждениям. Я отправляюсь туда по дружбе. Я не верю в идеи.
– Зачем это тебе нужно, Ренье?
– Зачем мне нужно – что?
– Корея.
– Франция, – уточнил Ренье.
– Прошу вас, – молил Ла Марн. – Не надо таких слов. Нельзя употреблять такие слова. Это слишком грубо. Вы заставляете меня краснеть… Здесь дама. Простите его, мадемуазель.
– О! Я, знаете ли.
– Франция, – сказал Педро, – ты даже забыл уже, что это такое.
– Это кровь, которую отдают за что-то иное, а не за Францию. Ла Марн не на шутку разозлился.
– Еще одно такое слово – и кому-то не поздоровится, – объявил он. – Первый, кто еще раз произнесет «Франция», получит в морду. Я не хочу больше слышать это, ясно? Я джентльмен, черт возьми. Говорите о траханье и будьте вежливы.
– Да вы что! – запротестовала девица.
– Я говорю не о вас, – сказал Ла Марн. – Я говорю вообще.
– Ирлеманн, Бекар, Флюри Эрар, де Тюизи, – пошел в наступление Ренье.
– Бельмонте, Манолете, Луис Домииген, – прокричал Ла Марн.
– Они будут участвовать в корриде на аренах Симьеза, – сказала девица.
– Жаль, что она проститутка, – буркнул Ла Марн.
– Да вы что! – завопила девица. – Выбирайте выражения.
– Извините меня, мадемуазель, – испугался Ла Марн. – Я говорил о человеческой расе. Я не имел в виду вас, поверьте мне.
– Тогда ладно, – сказала девица.
– Все же мне не по себе оттого, что вы направляетесь в Корею, – сказал Педро.
– Морис Гуэдж, Букийяр, Морле, Лоран, – сказал Ренье.
– Да ладно уж, – проговорил Ла Марн. – Почему не Сид Кампеадор?
– Почему бы и нет?
– Они как раз устроят корриду на аренах Симьеза, – сказала девица.
– Что ж, отлично, – сказал Ла Марн. – Закажете что-нибудь еще?
– То же самое, – сказал Ренье, – всегда одно и то же.
– Педро, – сказал Ла Марн. – Еще один Пармский Бурбон и один Орленско-Брагантский. Раз уж мы такие благородные.
Педро наполнил бокалы.
– Шествие! – закричал кто-то. Все встали.
Через застекленный дверной проем отеля «Негреско» Вилли Боше смотрел, как справляют полдень солнце и море – в полном равновесии, со спокойной уверенностью танцевальной пары, гастролирующей на провинциальной сцене. Отлично исполнено, подумал он, разглядывая позу с видом знатока. Он терпеть не мог полдень – этот бездарный час, когда все предметы и лица теряют свою глубину, когда все рядится в ризу подлинности и очевидности; своего рода солнечная пошлость, псевдоуспокаивающая атмосфера ничтожности и банальности. Тягостный для всех момент, когда реальность творит над вами настоящее насилие. Вы оказываетесь носом к носу со всем, что обычно отказываетесь видеть, и любые искусные ухищрения бесполезны: вы вынуждены общаться. Ничто больше не скрыто от вас – ни внутри, ни снаружи. Вы вынуждены признать очевидность, вынуждены согласиться с тем, что лицо Энн – самое прекрасное в мире и что оно потрясает всякий раз, когда вы на него смотрите, и это несмотря на ваш всем хорошо известный цинизм и вполне заслуженную вами репутацию законченного мерзавца. Вы также вынуждены признать, что по-прежнему влюблены в нее, влюблены пошло, глупо, смиренно, что вы превращаетесь в блеющее, мокрое, писклявое существо, которому, похоже, всегда требуется сапог, чтобы его лизать, – и это несмотря на все ваши решения быть безразличным и отстраненным, принимаемые в самый пик перевозбуждения, между тремя и четырьмя часами ночи, когда у вас уже практически не остается необгрызенных когтей. Порой, вы еще, конечно, убеждали всех и себя самого, что вы – исключительно ее импресарио, импресарио звезды, – положение, которое вы попросту закрепили и упрочили брачным контрактом: впрочем, амплуа мужа-сутенера довольно распространено в Голливуде, как и а других местах. Вы привязаны к ней лишь шестьюдесятью процентами, которые получаете с ее контрактов, и единственное, о чем вы жалеете, так это о невозможности пойти до конца и вести учет ее походов с докерами в какую-нибудь злачную гостиницу. Это было бы единственным более-менее удовлетворительным способом продемонстрировать себе свое безразличие и в то же время спасти свою честь, доказав, что она тут никоим образом не затронута. Но в этом тут же узнавалось нечто очень нежное и чистое, чувство, абсолютно несовместимое с вашим персонажем. И так вы жили не один год уже, полностью отрезанный от нее этой неразделенной любовью, вы улыбались рядом с ней в объектив, – «настоящая пара», «идеальная супружеская чета», «вечные новобрачные», – и единственным не вызывавшим сомнений удовольствием, которое вы из этого извлекали, было осознание того, что вы заставляли дорогой предмет своих желаний сносить цену этой рекламы: это было оговорено в контракте. Впрочем, чувствуя, как рядом с вами год от года растет это другое, все более отчаянное, все более огромное, одиночество, вы испытывали болезненное ощущение скоротечного счастья – выходит, у вас все же было что-то общее. Вы были согласны довольствоваться и этим. В то же время чувство тревоги не покидало вас, и вы понимали, что рискуете потерять и это, понимали, что она может освободиться далее от той общности со знаком минус, которая была вашим единственным достоянием: достаточно какой-нибудь встречи, вечеринки у друзей, открытой двери – ваша судьба всегда зависела от случая. Поэтому с вами случались приступы астмы, – ведь, будучи чувствительной натурой, вы смотрели на окружавших вас мужчин с заведомой злобой, отлично зная, что они готовят вам пакость. Вы также всегда старались их растоптать первым, что хотя и было всего лишь справедливым возмездием, но все же наделало вам немало врагов. Мысль, что любовь, подобная вашей, может остаться безответной, казалось вам, заведомо оправдывает все мерзости, которые вы можете совершить – и не только вы: люди вообще. В какой-то степени это доказывало такое отсутствие логики, такую глупость и несправедливость, что, право, не стоило больше стесняться. То, что могли сделать вы, было ничто рядом с тем, что могли сделать с вами. Все равно в Солнечной системе произошел сбой. В общем, вы жили с доказательством в себе, что дважды два не четыре. Вначале, когда вам еще случалось принимать Гарантье всерьез, вы как-то сказали ему, что первый мужчина или первая женщина, полюбившие вот так безответно на заре человечества, уже столкнулись с заблуждением, которое закралось во «всю эту подлую штуку» и которое с тех пор лишь росло. Вы не уточнили, что подразумеваете под «этой подлой штукой», но Гарантье не требовалось объяснений. Он знал.
Вилли исполнилось тридцать пять, у него были губы гурмана, а на подбородке из-за детской гримасы иногда появлялись ямочки. Он был высок, широк в плечах и в груди – но это скорее наводило на мысль о физическом недостатке, чем о силе, – большеголовый, с чуть приплюснутым лицом, с втянутыми чертами, тонкими и в то же время округлыми, чем-то напоминавшими негритянскую красоту на лице белого; рот, нос обладали изяществом, которое всегда придает выражению лица что-то детское; черные волосы вились. Случалось, он отпускал маленькие усики, которые голливудские гримеры называют французскими, из-за их изящества и четкости. Обычно он утверждал, что является выходцем из Нового Орлеана, родился в глуши, в семье, имеющей давние французские корни, – что до конца не объясняло ни его французский, на котором он говорил свободно, ни, впрочем, его английский, на котором он говорил, скорее, с оксфордским акцентом. О нем, однако, судачили, что вся его культура сводилась к выученным ролям; его считали одновременно простым и порочным, необразованным и умным. Объясняя его успех, говорили, что он наделен «талантом китча». В двадцать пять лет он снял два фильма, выступив в них в качестве сценариста, режиссера и исполнителя главной роли одновременно, и эти его творения на какое-то время пленили критиков и продюсеров – столько же времени широкая публика не разделяла их мнение. Сборы оказались катастрофически жалкими, и отныне ни одна студия не соглашалась предоставить Вилли новую возможность проявить себя в качестве «универсального гения». После периода бунта и возмущения, после комбинаций, распавшихся так же быстро, как и разрабатывавшихся, после нескольких снятых в Европе авангардистских фильмов он ограничился тем, что стал жить за счет своего агента, который платил по его счетам и давал карманные деньги. Так он вошел в мужской и женский гарем Вайдмана и стал жить в роскоши, хотя и при этом не имел ни гроша за душой, его одалживали продюсеры для ролей, которые презирал, но не нуждался он ни в чем. У Вилли эта высшая форма сутенерства немедленно вызвала восхищение: став пристально наблюдать за Вайдманом и его методами работы, он быстро понял, что тот действует без риска: у него была своя доля в большой сети кинозалов, и он мог навязывать кинокомпаниям своих звезд и свои цены или же отказываться от их фильмов. В сущности, это было банальное могущество, происходившее от денег, которые там вращались. Ему недоставало того порочного и циничного душка, который Вилли мог прекрасно придать предприятию такого рода. В общем, ему недоставало элемента искусства. Вилли тут же потерял всякий интерес к Вайдману и делал все, чтобы обходиться ему как можно дороже. Более того, всю свою репутацию гения – которая после финансового краха его фильмов даже укрепилась и в некотором роде утвердилась через него в глазах всех тех, кто в силу привычки отождествлять гениальность «с непониманием толпы» стали рассматривать искусство как форму неудачи, – направил на то, чтобы «пристроиться», как он сам об этом говорил, к нескольким утвердившимся дивам Голливуда, с большой деликатностью и ловкостью превратив эти творческие и любовные связи в крепкие эксклюзивные контракты в сфере кино и радио: женщины легко доверялись Вилли, тем более что он действительно умел, держа их в своих объятиях, говорить им об искусстве, да так, будто они сами толкали его на это. Впрочем, он доставлял им и более полное наслаждение с легкостью, которую они приписывали либо его французской крови, либо старицам Нового Орлеана, в зависимости от того, относили ли они себя к утонченным иителлектуалкам или простым земным девушкам с горячей кровью. Как правило, они стояли на пороге сорокалетия и уже начинали испытывать ту потребность в ласке, которая так часто приводит к алкоголизму; они говорили также, что хотят полностью отдаться искусству, а поскольку Вилли пылко, страстно поощрял их к этому, у них возникало ощущение, будто они общаются с кем-то, кто их до конца понимает; в то же время он успокаивал их относительно будущего, призывая надлежащим образом оценить то, что им наконец-то посчастливилось освободиться от уловок юности – поры, говорил он, которая из-за глупости своих порывов является противницей глубины; им станет доступна драматическая мощь, они вырвутся наконец из темницы задниц, бедер и грудей, так долго мешавших им показать лучшее, что в них есть, – словом, смогут наконец-то претендовать на нечто иное – и он раз-другой произносил имя Шекспира, нежно похлопывая их по руке. Таким образом он довольно легко собрал капитал, необходимый для того, чтобы полностью избавиться от Вайдмана и организовать свое дело; в то же время он решил, что так он открыл для себя свое истинное призвание, – в жизни это встречается так же редко, как настоящий гений. Его новая известность росла как снежный ком – если так можно выразиться, – и очень скоро в его «конюшне» оказались самые высокооплачиваемые имена Голливуда; неодолимая сила толкала их в кильватер того, кто пользовался репутацией акулы в среде акул. Возобновив свою карьеру «универсального гения», он мог выбирать роли, навязывать продюсерам сюжеты, попросту угрожая забрать у них своих звезд, – он мог даже позволить себе роскошь иметь левые взгляды и выставлять их напоказ. Но искусства ему уже было недостаточно. Приходилось увеличить дозу – без чего реальность вновь быстро одерживала вверх. Он постоянно нуждался в беспрерывном творческом процессе – он не мог больше довольствоваться искусством, которое в лучшем случае было лишь интермедией, вклинивавшейся в непрерывность реального. Он твердо решил творить жизнь. Его любимыми персонажами втайне всегда были Кот в сапогах, Микки Маус, граф Монте-Кристо, Калиостро, граф Фоско из «Женщины в белом» – и он был преисполнен решимости обращаться с жизнью с присущим им высокомерным презрением. Он твердо решил возвысить свою жизнь до журнального романа с продолжением. Это было нелегко – и его усилия в этом направлении стоили ему жесточайших приступов астмы и крапивницы: реальный мир одерживал верх. Но ему все же весьма удачно удалось скомпоновать свой персонаж Вилли Боше, собранный из цинизма, наркотиков – впрочем, к ним он никогда не притрагивался, но его репутации было достаточно, – побед над женщинами и почти единодушной ненависти всех тех, кто с ним сталкивался. Он уже чуть было не забыл про маленького Микки Мауса, жившего внутри него и громко требовавшего свою ежедневную дозу чудесного, – Микки Мауса, которого нужно было любой ценой прятать от глаз женщин, с которыми он спал, и от взрослых вообще, – как вдруг один из тех подлых ударов, на которые порой способна судьба, подкосил его и швырнул, головой вперед, в самую гущу реальности.