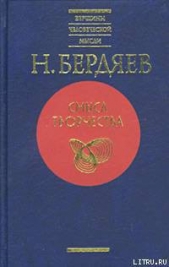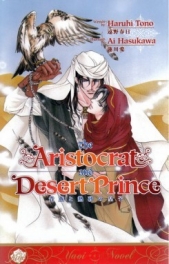Самовольная отлучка

Самовольная отлучка читать книгу онлайн
Так же как и роман "Глазами клоуна" повесть Г. Бёлля "Долина Грохочущих Копыт" – о "белых воронах" – людях тонких, уязвимых, часто неприкаянных, но не могущих и, главное, не желающих жить так, "как все".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На Вайдмаркте мое беспокойство перешло прямо-таки в нервозность; еще минута – и я сойду на Перленграбене. Решение принято. (Мама умерла, и я это знал). Поскольку даже здесь, в трамвайном вагоне, запах экскрементов образовал вокруг меня зону отчуждения, я был как бы заключен в башню из слоновой кости; так называемый внешний мир воспринимался мною несколько нереально и нечетко (а может, и четко), как он воспринимается сквозь тюремную решетку. Штурмовик (и как только человек может надеть такую форму!), господин с шелковым галстуком, явно принадлежавший к образованному сословию, молоденькая девушка, которая своими детскими пальцами вынимала из бумажного пакета виноградины, и кондукторша – ее молодое грубоватое лицо казалось красивым благодаря выражению неприкрытой чувственности, отличавшему в свое время лица всех кёльнских кондукторш, – все они шарахались от меня, как от прокаженного. Я протиснулся к передней площадке, соскочил с трамвая и помчался по Перленграбену; три минуты спустя я уже подымался по лестнице на четвертый этаж доходного дома. Толкователю, который гонится за истиной, я советую начертить полукруг западнее Северинштрассе с радиусом в три минуты, установив ножку циркуля на трамвайной остановке Перленграбен, а потом выбрать себе одну из улиц в этом полукруге; чтобы точнее определить радиус, мне следовало бы сообщить мою скорость: предлагаю нечто среднее между скоростью Джесси Оуэна и скоростью бегуна-любителя, добившегося неплохих результатов. Меня ничуть не удивило, когда я увидел над дверью квартиры Бехтольдов табличку с надписью: «Глядите на него. На кого? Се жених грядет! Как грядет? Как агнец!» Не успел я нажать на кнопку звонка… говорить об этом излишне, но для верности все же скажем… как Гильдегард уже открыла дверь, упала в мои объятия, и вся вонь вокруг меня исчезла.
III
Изобразить на этих страницах хотя бы несколькими штрихами силу нашей любви, а тем более проанализировать ее не входит в мои намерения и выходит за рамки моих возможностей. Одно ясно: то не была любовь с первого взгляда. Только час спустя, когда я уже прошел обряд посвящения, неминуемый в бех-тольдовском клане, выпил свой жениховский кофе и наполовину изничтожил жениховский пирог, у меня впервые появилась возможность как следует разглядеть Гильдегард. Она была куда красивее, чем это позволяло предположить ее сходство с Ангелом; и я вздохнул с облегчением. Хотя я любил ее вот уже две недели, мне было приятно, что она показалась мне красивой. Боюсь, если я сообщу теперь, что с той поры мы с Гильдегард как можно чаще, хотя и недостаточно часто, заключали друг друга в объятия, и напомню, что приписываю это божественному провидению, которое заставило меня в ту секунду, когда раздалась команда «лопату к ноге», позабыть внезапно всю прошлую выучку, это наведет заботливых папаш на мысль посылать своих сыновей «на службу» не только из воспитательных соображений, но и с той целью, чтобы они, пусть окольными путями, неправильно исполнив команду «ружье к ноге» (саперных лопат сейчас уже не водится), заполучили себе такую милую, умную и красивую жену, какую заполучил я. Я хотел бы предостеречь от этого, сославшись на сказку «Метелица» (и на другие аналогичные сказки), в которой говорится, что человек, совершающий добрые поступки без заранее обдуманного намерения, пожинает куда более богатые плоды, нежели человек, подражающий ему и совершающий добрые поступки с заранее обдуманным намерением; еще раз торжественно клянусь, что я делал все не преднамеренно (тут я оставляю в альбоме «Раскрась сам» несколько чистых страниц, а злыдни пусть скрежещут зубами, ведь, одержимые своими черными замыслами, они не желают верить, что божественное провидение может привести к чему-то хорошему и того, у кого нет никаких замыслов).
Разумеется, мне не дано постичь все намерения провидения, но одно из них, безусловно, состояло в том, чтобы обеспечить семейство Бехтольдов кофе не только в военные годы, но и во все последующие (отец мой занимался оптовой торговлей кофе и передал мне свое дело).
Вторая, побочная, цель состояла в том, чтобы продемонстрировать мне с помощью моих шуринов то безумие двадцатилетних, о котором я не имел понятия до 22 сентября 1938 года. (Буржуазная семья, аттестат зрелости, один семестр у Бертрама, в национал-социалистской партии и в других нацистских организациях не состоял.) Далее. Провидение, возможно, позаботилось и о том, чтобы подыскать мне, когда я потерял маму, хорошую тещу, которая любила бы меня, как родная мать (моя теща не только готова была притвориться ради меня мертвой, она пошла еще дальше, что соответствовало ее крутому характеру, – с большим трудом пробилась к большому военному начальнику и обозвала его «законченным кретином», потому что он не желал продлить мне увольнительную, когда моя дочурка заболела скарлатиной). И наконец, еще одна цель: предоставить моему папаше в лице старого Бехтольда собеседника на всю жизнь, с которым он мог бы ругательски ругать нацистов, а также обеспечить младшего брата Ангела – Иоганна, который был заядлым курильщиком, моим табачным пайком на все то время, что табак выдавался по талонам (стало быть, почти на одиннадцать лет). Возможно также, божественное провидение замыслило сбалансировать экономическое положение двух семей: у нас были деньги, у Бехтольдов их не было. В отношении кофе мне, во всяком случае, все абсолютно ясно: ни одному семейству не пришлось бы так туго с кофе во времена, какие вскоре наступили, как Бехтольдам. При каждом удобном случае каждый из членов этой семьи вопрошал: «А не сварить ли мне кофейку?» – хотя можно было не сомневаться, что уже до этого на стол раза четыре или пять ставили кофейник. Позднее, когда война действительно разразилась, я дважды крупно просчитался: во-первых, я снизил потребление кофе в бетхольдовской семье с двухсот фунтов до семидесяти пяти ежегодно и установил продолжительность войны в семь лет, не знаю, по какой причине – то ли из пессимизма, то ли из мистической приверженности к числу «семь», – как бы то ни было, я заставил отца спрятать на складе соответствующее количество кофе в зернах. А во-вторых, вдолбил в голову теще, что кофе необходимо экономить и напугал ее картиной бескофейной эпохи, какая грозит наступить, если теща не будет достаточно экономной.
IV
Прежде чем продолжить свой рассказ, я хочу заверить, что ассенизационная тема исчерпана так же, как ма странице 170 была исчерпана шопеновская. Я собираюсь покончить также с описанием воспитательных мероприятий в военных организациях. У читателя легко может возникнуть подозрение, будто эта повесть написана с антимилитаристских позиций или даже с позиций борьбы за разоружение – иначе говоря, враждебных вооружению. Нет, нет, дело идет о более высоких материях, о… ведь каждый непредвзятый читатель давно уже это понял… о любви и невинности. Ие моя вина, если обстоятельства сложились так, что детали, с помощью которых я пытаюсь изобразить любовь и невинность, вынуждают меня писать об известных учреждениях, установлениях и порождениях; это вина судьбы, на которую каждый может роптать, сколько его душе угодно. Разве я виноват, что пишу по-немецки, что в погребе немецкого казарменного сообщества его предводитель обругал меня «жидом» и что в задней комнате нищей румынской лавчонки красивая еврейка подарила мне поцелуй только потому, что я немец? Родись я в Баллахулише, я писал бы самыми черными чернилами или самым мягким карандашом на самой белой бумаге о любви и о невинности в совершенно ином стиле и с иными деталями. Я воспел бы собак, лошадей и ослов, воспел бы милых дев, которых целовал после танцев у изгороди, обещая то, что собирался исполнить, но потом не исполнил, – повести их под венец. Рассказал было лугах и болотах, о ветре, который воет в торфяных ямах, о ветре, заливающем темные торфяные ямы водой, о воде, которая вздымается так, как вздымалась черная шерстяная юбка девы, той самой, что хотела утопиться, ибо юноша, целовавший ее и обещавший назвать своей женой, стал священником и покинул родные края. Я бы исписывал страницу за страницей, чтобы воздать хвалу собакам из Дингуолла; эти умные и верные животные – чистокровные, мак все ублюдки, – уже давно заслужили памятник хотя бы на бумаге. Но от себя не уйдешь, и я снова чиню карандаш – не для того, чтобы нарочно сообщить нечто безрадостное, а для того, чтобы сообщить, как все было… И мы волей-неволей, вздохнув, возвращаемся в Кёльн, на улицу, которую можно обнаружить западнее Перленграбена, в трех минутах ходьбы от трамвайной остановки, если эту улицу вообще можно обнаружить. О нет, земля ее не поглотила! Ее смело, стерло с лица земли, и чтобы в альбоме «Раскрась сам» эта страница не осталась совершенно пустой и, таким образом, не возникло бы путаницы, я сообщу несколько мелких примет этой улицы: табачная лавка, меховой магазин, школа и много-много светло-желтых домов, домов почти такого же цвета, какие я видел в Пльзене, но не таких высоких. Рекомендую дотошным и одаренным читателям нарисовать три экскаватора: на одном из них будет болтаться меховой магазин, на втором – табачная лавка, на третьем – школа, а в качестве эпиграфа для этой страницы я предлагаю слова: «Труд дает свободу». Одно плохо: никто не будет знать, где надо прибить мемориальную доску, если в один прекрасный день люди решат, что Ангел был святым. Я вполне отдаю себе отчет, что не являюсь представителем церковной конгрегации и без помощи «адвокатов дьявола» не могу ставить вопрос о причислении к лику святых, но Поскольку мое вероисповедание неясно, надеюсь, никого не оскорбит, если я протащу лишнего святого в какую-либо религию, к которой, по всей вероятности, не Принадлежу. Как и все в моей повести, это будет непредумышленно. Конечно, тот факт, что Ангел был, можно сказать, моим сватом, а также моим шурином, заставит людей недоброжелательных воскликнуть: «Ага!» Но раз графа «вероисповедание» все равно остается в альбоме незаполненной, я, по-моему, могу позволить себе некоторую вольность: ведь с Ангелом я как-никак провел целых две недели; почуяв его святость, люди, возможно, перестанут чуять в этой повести запах экскрементов. Вижу, вижу, мне ничего не позволят, подозревая злые умыслы, но я оставлю все, как есть, ведь терпимость (как говорят) не является богословской категорией. А потом отец мой еще жив и уже давно перестал ходить попеременно в разные церкви; он в них вообще не ходит и свои бланки на уплату церковных налогов мне не показывает. До сих пор они вместе со старым Бехтольдом, моим тестем, ругательски ругают нацистов. Впрочем, эти старички нашли себе еще одно занятие: они исследуют прошлое Кельна, его пласты. День и ночь возятся в раскопе, который мой папаша вырыл у нас во дворе и велел покрыть навесом; вполне серьезно, хотя и хихикая, они уверяют, что открыли развалины храма Венеры. Теща моя – католичка на свой особый, весьма милый лад; как и все кёльнцы, она придерживается лозунга: «Что такое католицизм, мы здесь сами знаем». Когда мне приходится беседовать с ней на религиозные темы (как-никак я отец двадцатичетырехлетней дочери, которая согласно горячему желанию моей умершей жены была воспитана католичкой, но потом вышла замуж за лютеранина и, в свою очередь, стала мамой трехлетней дочурки, которая согласно ее горячему желанию воспитывается католичкой); так вот когда мы с ней беседуем на эти темы и я на основе достоверных фактов доказываю, что ее точка зрения не соответствует официальной позиции церкви, теща возражает мне и при этом произносит сентенцию, которую я воспроизвожу не без душевных колебаний! «Тогда, стало быть, сам папа римский ошибается». А если при наших беседах присутствуют церковные должностные лица – чего иногда не избежишь – и если они нападают на ее, мягко выражаясь, своеобразное отношение к папе, она не отступает ни на шаг и ссылается на нечто такое, что столь же трудно доказать, как и опровергнуть. «Мы, Керкхоффы, – говорит она (моя теща урожденная Керкхофф), – всегда были католиками по совести». Не мое дело разубеждать тещу. Для этого я ее слишком люблю. Но чтобы еще усугубить путаницу в отношении этой любезной особы (во время войны она как-то раз собственноручно спустила с лестницы молодчика из полевой жандармерии, который выслеживал ее сына Антона – дезертира; собственноручно, в буквальном смысле слова) я сообщаю еще одну деталь для альбома «Раскрась сам»: моя теща полтора месяца руководила ультралевой ячейкой, пока не решила, что «это дело» не согласуется с ее «католицизмом по совести», кроме того, она возглавляла и до сих пор возглавляет молитвенный кружок.