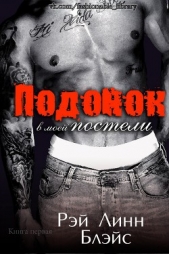Не сбавляй оборотов. Не гаси огней

Не сбавляй оборотов. Не гаси огней читать книгу онлайн
В своем втором по счету романе автор прославленной Какши воскрешает битниковские легенды 60-х. Вслед за таинственным и очаровательным Джорджем Гастином мы несемся через всю Америку на ворованном кадиллаке -59, предназначенном для символического жертвоприношения на могиле Биг Боппера, звезды рок-н-ролла. Наркотики, секс, а также сумасшедшие откровения и прозрения жизни на шоссе прилагаются. Воображение Доджа, пронзительность в деталях и уникальный стиль, густо замешенные на старом добром рок-н-ролле, втягивают читателя с потрохами в абсурдный, полный прекрасного безумия сюжет.
Джим Додж написал немного, но в книгах его, и особенно в Не сбавляй оборотов — та свобода и та бунтарская романтика середины XX века, которые читателей манить будут вечно, как, наверное, влекут их к себе все литературные вселенные, в которых мы рано или поздно поселяемся.
Макс Немцов, переводчик, редактор, координатор литературного портала Лавка языков
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конкуренция была жесткой. Помню свой первый вызов. Я тогда еще не ориентировался на местности, так что, ничего не подозревая, проехал по улице с односторонним движением и вынырнул буквально перед самым носом у этого ненормального, этого придурка Джонни Штурмовика, который работал у «Парду Бразерс». И вот я, радостный такой, цепляю трос а когда сажусь обратно в кабину и включаю зажигание — вот черт! — мотор никак не заводится. Вроде как искры нет. Озадаченный, я поднимаю голову и вижу Джонни Штурмовика — в руках у него мои провода к свечам зажигания, прям букет для свадьбы каких-то резиновых уродов. Не успел я и рта раскрыть, как он уже запихал проводины в канализационную решетку. Хотел было погнаться за ним, да неподалеку оказались копы. Я — к ним, да только они на меня ноль внимания. Наконец один, старший сержант, отозвал меня в сторонку и говорит: «Ну что там у тебя? Не можешь отогнать машину, пусть отгоняет другой. Как говорится, хлебай дерьмо, салага! Так-то! Тут и без вас, чокнутых, дел хватает. А ты новичок, что ли? Не знал, значит? Ну так вот, знай и к нам больше не лезь».
Я и придумал кое-какие трюки. Перво-наперво насадил кое-кому на выхлопную трубу репу. Потом перед Днем независимости подлез под брюхо восьмиколесника Билла Фробишера и приклеил коробку с бенгальскими огнями. Нагревшись, они вспыхнули, и надо было видеть Билла — его прямо сдуло с сиденья, только пятки сверкали. Перед Штурмовиком я тоже в долгу не остался: обрызгал переднее сиденье моторным маслом и поджег. Штурмовик цеплял трос, он даже не заметил пламени, но, на его счастье, рядом оказался я со здоровенным таким огнетушителем из мастерской Краветти. Кончилось все тем, что пена побежала из обоих окон кабины, а радио забулькало, как тонущая крыса. На второй раз я придумал кое-что повеселее: раздобыл баллончик с быстро сохнущей серебрянкой и уделал Штурмовику лобовое стекло.
Таким я и был: юнцом, которому и двадцати еще не исполнилось, гонял на буксировщике как бешеный, зашибал неплохую деньгу и наслаждался жизнью. Бензедрин я глотал все так же, по два «колесика» в день: одно после завтрака, одно на обед. Спиды вносили в мою жизнь какую-никакую размеренность: с восьми до пяти оттрубил дневную смену, по выходным свободен, две таблетки в день, потом на боковую и давишь храпака шесть часов. Что может быть лучше здорового образа жизни!
Работа мне нравилась, хотя иной раз приходилось попотеть, но еще больше нравилось жить в Норт-Бич. Местечко было оживленное. В 50-е, я про них веду речь, движение битников как раз набирало силу. Многие подтвердят, что 54-й и 55-й, еще до всей этой шумихи, были самым лучшим временем, по крайней мере, на взгляд наивного паренька, который весь на нервах метался между Майами и Сент-Луисом. Как раз битников я и искал. В них чувствовалась та же жажда переживаний. Ну да, выпендреж тоже был, но все же во сто крат лучше, чем какая-нибудь постная воскресная школа, на которую в массе своей и походили 50-е: одна большая Воскресная Школа для души, гордящейся своими скучными добродетелями и злобствующей из-за подавленных страстей. Но в том-то все и дело, что невозможно жить, боясь жизни. Иначе сядешь на мель.
Битникам хотя бы была присуща смелость во вкусах и восприятии. Они действительно жаждали эмоций, им нужны были любовь, истина, красота, свобода — мой друг, поэт Джон Сизонс, назвал их «четырьмя великими иллюзиями» — ну а моей страстью в то время было высекать искры в громадном двигателе внутреннего сгорания, мощь которого передавалась по трансмиссии колесам — четырем малым иллюзиям. Благодаря горючей природе жидких останков динозавров я днями и ночами с ревом носился на такой скорости, которую никто, останься у него хоть капля разума, не признал бы нормальной. Если мне случалось в каком-нибудь из баров Норт-Бич рассказывать о своих ощущениях, то можно было не сомневаться: девица слева только что написала стихотворение как раз об этом, точно схватив мимолетные ощущения, а парень справа как раз закончил картину, которая, по его словам, была именно что про такие вот возвышенные чувства; мы болтали до потери пульса, смеялись, а в два ночи, когда бар закрывался, я выходил на Бродвей, поеживаясь от прохладного тумана, но в отличном настроении. Таким вот он был, Норт-Бич — средоточием истосковавшихся по собственным душам. И, несмотря на все позерство и легкомыслие, это было великолепно.
По правде говоря, одно время и я любил порисоваться, но большей частью из-за элементарной подростковой неуверенности и ощущения своего несоответствия интеллектуальному уровню остальных. Неуверенность я маскировал обычной порцией наглости и бравады, но вот скрыть вопиющее невежество было не в пример труднее. В отличие от большинства я имел полное право заявлять, что знаком с жизнью рабочего класса не понаслышке, так что первое время являл собой довольно-таки скверный образчик противника всего интеллектуального. К чертям собачьим высокие слова, я кручу баранку! По счастью, многие были настолько любезны, что не обращали на мои закидоны внимания и даже принимали в свои компании, снабжали книгами. Сидя вот так вот в барах и слушая, можно было столько всего нахвататься, что достало бы на два гуманитарных образования. Постепенно я изменился: из непримиримого противника стал ярым последователем. Я хотел знать всё и впоследствии не раз пожалел о своих непомерных аппетитах.
Считай, что тебе повезло, если смог чему-то научиться у друзей. В пору юности у меня был закадычный приятель из тех, кто играл на огромном саксе; звали этого джазиста с бронзовой кожей и ржаво-красными волосами Рыжий Верзила Чума. В нем было шесть футов семь дюймов, и каждый дюйм дышал музыкой. Я слышал, как он играл с лучшими музыкантами — так вот, это было избиением младенцев. Верзила мог на такое замахнуться и… не облажаться. Все до единого хотели записать его игру, но в семь лет парню было какое-то там видение, мол, его дар существует только здесь и сейчас, а после записи — повторения во времени, но не в памяти — потеряет свои способности. По крайней мере, так он мне рассказывал, а я ему очень даже верю.
Лу Джонс, или, как его звали, Отвязный Лу, до того обожал музыку Верзилы, что однажды перед вечерним выступлением тайком от всех забрался под помост сцены и включил магнитофон. Когда на следующий день Лу рассказывал мне об этом, его все еще трясло: на пленке отлично прослушивались все инструменты, за исключением сакса Верзилы — ну ни звука! Я никогда не говорил об этом с самим Верзилой. Да и к чему мне соваться не в свои дела.
Кроме музыки никаких других звуков вытянуть из Верзилы было нельзя. Стоило ему сказать за весь день предложений десять, как все — он уже хрипел. Верзила если и открывал рот, то ничего глубокомысленного не изрекал. «Ну что, по пивку?» или «Одолжишь пятерку до выходных?» Если спросить его о чем-то простом, он лишь кивнет или помотает головой, а то и пожмет плечами, но вот чтобы выдавить из себя пару слов — это вряд ли, тут шансы один к ста. Когда я только познакомился с ним, меня это порядком напрягало; в конце концов я не выдержал и спросил его прямо — почему он никогда не болтает просто так. Верзила пожал плечами: «Да я лучше послушаю».
Надо сказать, что, имея такую практику, слушать он научился отменно. Представь себе: ходил поесть в «Кафе Джексона» только ради звона их тарелок — видите ли, нравился ему этот звук. Помнится, однажды мы обедали, а помощник официанта с лязгом вкатил в зал большую тележку для грязной посуды. Так вот, Верзила вылез из кабинки, упал на четвереньки и прополз за тележкой до самой кухни, слушая во все уши. Но, несмотря на подобные странности, все же было здорово, что он умел слушать, потому как я-то трещал без умолку.
Я отвисал с Верзилой, а значит, был завсегдатаем местных джаз-клубов. Раньше я как-то не прислушивался ни к каким звукам кроме шуршания шин по асфальту и вибрации дизеля, прорезывающей ночь, но джаз, такой живой и близкий, в сигаретном дыму, с привкусом виски во рту и мелькающей рядом разодетой девицей — такой джаз свел меня с ума. До самого нутра пробрал. Во всяких там искусствах я ни в зуб ногой, но если уж меня что цепляет, сразу чувствую.