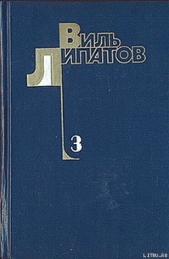Лев на лужайке

Лев на лужайке читать книгу онлайн
Роман о головокружительной газетной карьере «обаятельного конформиста». Последний роман Автора, изданный спустя 10 лет после его смерти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Никита! — прошептала Вера. — Нам будет здесь хорошо, Никита!
Она забыла, какой ценой досталась нам эта квартира, и червь, который подтачивал нашу любовь и нашу дружбу, в эти минуты прекратил свою незаметную, но неустанную работу по уничтожению того, что называется дурацким словом «брак».
— Ты права, — сказал я, — нам здесь временно будет хорошо.
Очарованная бордовостью холла, здоровенными окнами, балконом и лоджией, Вера пропустила мимо ушей слово «временно», чего в обычной обстановке быть не могло. Что же! Женщины консервативны, женщины не любят перемен, если их не сжигает огонь тщеславия. Моя жена Вера относилась к числу людей, нетребовательных к жизни в ее стоимостном выражении, — это шло от ее отца, замечательного в своем роде человека. Габриэль Матвеевич Астангов! Этим все сказано…
— Никита! Я счастлива, Никита!
— Счастье — твое перманентное состояние, Вера.
И этого она не заметила, но вспомнит мои слова много лет спустя, чтобы повторить их с другим совершенно смыслом. Видимо, слова отпечатались в памяти: так бывает, так бывало и со мной. Вдруг что-то всплывет, зазвучит в ушах, увидится, а что это такое и откуда — вспомнить невозможно.
— Поставим самую простую и дешевую мебель, — ласково продолжал я. — Весьма желательно, душа моя, чтобы мебель была временной. Понимаешь, мебель-времянка?
— Как хочешь, как хочешь! — готовно ответила она и опять — вот чудо из чудес! — не обратила внимания на слова «временный» и «времянка»: для нее это означало обычную мебель. — А солнце, Никита, у нас будет только по вечерам! — сказала она по-прежнему восторженно. — Ну, это пустяки, Никита!
Я никогда не увижу солнца из окон нашей первой московской квартиры, у меня не выберется свободного времени, чтобы хоть один раз оказаться дома, когда в окна заглядывает солнце. Почти десять лет жизни в доме с меловым львом на стене я буду работать как проклятый, как негр на сахарной плантации, как узник на галерах, чтобы уйти из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную и, наконец, — пятикомнатную с двумя санузлами и окнами, выходящими на все стороны света. Солнце всегда будет жить в нашей пятикомнатной квартире, но из ее окон я его тоже не часто увижу. Солнце мне будег светить на чужих дачах, трех разных дачах постепенно увеличивающейся кубатуры и этажности, дачах, возле одной из которых… Но об этом позже. Сейчас я стою в холле моей первой в жизни собственной двухкомнатной квартиры и наблюдаю за восторгами жены, не пожелавшей из любви ко мне оставить себе девичью фамилию. На мой взгляд, фамилии менять нельзя, как, скажем, нельзя в институте косметики менять внешность, фамилию, к сожалению, можно только наследовать и должно наследовать, иначе я бы — даю слово — не остался Вагановым. Я настолько же не люблю фамилию отца, насколько люблю его самого за его несчастья, за неутоленную мечту об автомобиле. Я бы не стал из Астанговой превращаться в Ваганову, но этого Вера не понимает и никогда не поймет, бог с ней, неумолимой и мечущейся!
… Несколько лет назад, а точнее — пять с половиной лет назад, до отказа открыв свои миндалевидные восточные глаза, Вера протяжно спросила: «Ты карьерист, Никита? Ты подлец, Никита? Ради всего святого, скажи мне правду?!» Я подумал и ответил: "Такие вопросы рекомендуется выяснять до поездки в отдел записи актов гражданского состояния… Теперь надо спрашивать: «Мы карьеристы? Мы подлецы?..»
А Вера разохалась:
— Твой кабинет, оказывается, будет самым светлым…
Повторяю, я так и не увижу первую собственную квартиру освещенной солнцем, знал об этом заранее и поэтому решительно сказал:
— Кабинета не будет! Вообще, Вера, и мужа у тебя тоже не будет на… необозримый период. Я превращаюсь в редакционного вахтера, работающего круглосуточно…
… Вам, конечно, интересно узнать, каким образом я, Никита Ваганов, в рекордно короткое время стану ответственным работником центральной газеты «Заря». Расскажу-ка о парикмахерской… Москвичи и даже приезжие знают парикмахерскую, что находится на улице Горького рядом с магазином «Подарки». Там до сих пор работает спокойная доброглазая женщина, имя-отчество которой я запомнил — Нина Петровна. К ней я попал случайно, в порядке очереди, и вызвал недоуменный вопрос:
— Что будем делать?
Из зеркала смотрел молодой человек с тщательно ухоженными длинными волосами, то есть прической, продуманно необходимой для его доброго лица. Нина Петровна сразу поняла, что менять ничего не надо и нельзя. Но я сказал:
— Возвращаюсь в офицерское звание. Сделайте нечто такое, знаете, чтобы… под фуражку.
И через час — Нина Петровна работала предельно добросовестно и тщательно — из зеркала поглядывал не капитан артиллерии, а преуспевающий ученый из тех, что ищут в газетах свою фамилию в списке будущих член-корреспондентов. Я закусил губу: «Не получилось!» Нина Петровна задумчиво сказала:
— Вы помолодели, но стали значительнее. Странно!
Только через месяц, чисто случайно, эмпирическим путем я пойму, что надо предпринять, чтобы Никита Ваганов не бросался в глаза, не выпирал из массы, не привлекал внимания…
— Я люблю тебя, Никита! — сказала Вера.
Она докажет, что это так и есть, докажет самоотверженностью и бессребреничеством, самоотдачей, полной растворяемостью, если так можно выразиться, в моих делах; она докажет это и противоположными действиями: борьбой против моего, придуманного ею коварства, карьеризма и жестокости. Естественно, она потерпит поражение: силенок у Веры не хватит, чтобы остановить Никиту Ваганова в бесконечном стремлении вперед и вверх; на этой почве и возникнет временное взаимное непонимание. Она не знала, что мужа остановить нельзя…
— Делай все, что тебе заблагорассудится, Вера, но только не тяни. Я хочу через неделю ночевать в новой квартире. Вот это я говорю серьезно…
Теперь-то я понимаю, почему боялся остановки: не позволял себе иметь ни минутки свободного времени, чтобы оглядеться, обдумать деяния рук своих, разобраться в себе и других. Я был зашорен и зашорен сейчас; берусь доказать, что человек вообще и человечество в целом существует — не сходит с ума, не стреляется и не вешается — только потому, что не разрешает себе вдумываться в происходящее. Вперед! Только вперед! Утром человек предвкушает, как будет после работы пить бочковое пиво, вечером, ложась в постель, мечтает, как утром наденет новую сорочку…
— Ты поняла меня, Вера?
Она обиделась:
— Ты разве не видишь, что я готова въехать даже в пустую квартиру…
II
Читатель непременно заметит, как вяло я написал эту главу, как скучно мне рассказывать, как я аморфен, неэнергичен, неинтересен. Оно и немудрено: мое возвращение в Москву, в столицу, возвращение — я не хвастаюсь — на белом коне было счастьем на три дня, ликованием на семьдесят два часа и ни минутой больше, так как ровно через семьдесят два часа, отсиживая скучнейшую летучку, я понял, что началась серые будни, беспросветные будни литературного сотрудника отдела промышленности, так резко отличные от праздника моего спецкорреспондентства в Сибирске и поблизости. Я заранее был готов на медленное-медленное восхождение наверх, но контраст был таким, что я купил большой коричневый портфель, а чемоданчик типа «дипломат» спрятал подальше.
Серые будни, печальные будни. Болото будней!
Проученный за ярость и заметность на сибирском партийном собрании, хорошенько обдумавший тему «посредственность и карьера», «безликость и карьера», «серость и карьера», окоротивший волосы и надевший очки в маленькой оправе, я уже не мог себе позволить блистать, как блистал прежде, понимая, что уж в редакции-то «Зари» на этапах медленного-медленного продвижения по службе такие субчики, как Валька Грачев, мне не простят ничего, выходящего за рамки обыденности. Я должен был идти в строю, набравшись терпения, не «мыркать» и не спешить к сияющим высотам. Пока я сам выбрал серость, сам переменился ради серости и будней, изнуряющих будней.