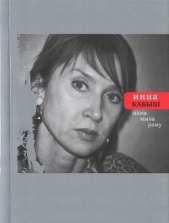Новый Мир ( № 3 2002)

Новый Мир ( № 3 2002) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да, были у эллинов основания подозревать Гомера в пристрастности и считать его троянцем, ведь греки, слушавшие, а потом и читавшие «Илиаду», — уже не те греки. Они, как Одиссей, «растаяли».
В основе культуры лежит утрата, и различие между культурами, может быть, и заключается в том, как они видели, как переживали утрату. Город или сад, близость к Богу или власть над природой, бессмертие, единый язык, человеческие отношения — что оставлено в золотом веке? Есть своя память у Израиля, своя потеря — у Рима. Маялись ощущением какой-то нынешней неправильности, невозвратности былого и греки, но не было ясного осознания этой утраты. Нет единого греческого мифа об изначальном, правильном состоянии, нет постоянного проживания этой беды. Гесиод скажет о золотом веке, без войн, без труда, Пиндар — об Островах Блаженных, с вечным танцем и неувядающей юностью, Платон придумает Атлантиду, но единого мифа нет, и, вероятно, именно поэтому грекам так и не удалось превратиться в единую нацию — ни в пору величайшего расцвета, ни в Средние века. Один из древнейших народов Европы государственность обрел лишь в Новое время, в числе «молодых наций».
Что же такое утратили греки, что не давало им даже постичь эту потерю? Не память ли?
Мифы Платона — огромный затонувший остров, цельный человек, рассеченный богами надвое, пещера, от обитателей которой скрыт истинный свет, — не тоску ли по прежнему единству, по принадлежности к какой-то большей цельности выражают они? И сам Платон упрекает эллинов как раз за «короткую память» — три-четыре поколения предков насчитывают они, а там уже — прародитель Зевс. На самом-то деле от богов нас отделяет цепочка в несколько сот поколений, но мы все забыли.
Потеря памяти — печальнейшая из утрат, ведь человек как бы и не ощущает ее.
Одиссей все время на грани этой утраты. Отведавшие лотоса спутники Одиссея перестают стремиться домой, другие его сотоварищи, подвергшиеся чарам Цирцеи, едва не остались навеки в животном облике. По пути домой Одиссей теряет соратников, теряет добытое богатство, теряет корабли — теряет свою биографию, не может отыскать дорогу на Итаку, а когда вернется спустя годы домой, то под чужим именем. Но главный его противник — время.
В «Илиаде» все подвиги совершались на узком клочке земли под Троей. Время в героической поэме определялось событиями, день наиболее ожесточенного сражения растянулся настолько, что богам пришлось самим опустить на землю ночь, точно занавес; когда же особых событий не наблюдалось, совокупность дней обозначалась одной строкой или даже одним словом — «эннемар», «девятиднев». В «Одиссее» время обрело самостоятельность и стало ощущаться как величайшая загадка, как колдовство. Цирцея может изменить человеческий облик волшебным напитком, но и без ее зелья каждый человек меняется во времени. Меняется — и остается собой?
Те, кто ждут на Итаке, не знают, каким вернется к ним — если вернется — Одиссей.
Как только Одиссей ступает на берег Итаки, он возвращается из заколдованного времени — военного похода, героики, мифа — в обыденное, человеческое. Богиня Афина «проливает на него безобразную старость». Одиссей не превращается в другого человека, но и на себя прежнего он не похож. Для узнавания требуется примета, то есть память близких.
Тень Агамемнона неотступно присутствует в «Одиссее» — призрак, которого беспамятность унесет в небытие, память — наполнит жизнью.
Одиссей же сидит на берегу острова Калипсо, мечтая хоть издали увидать «дым отечества». Агамемнон — тень, дым, вьющийся над погребальным костром; Одиссей, стремясь к дыму отечества, начинает путь от тени к полноте бытия, к имени, родственным узам, памяти.
Заплакав, Одиссей вновь становится Одиссеем. «Теперь я назову свое имя», — говорит он царю. Обретение себя начинается с имени.
«Я Одиссей, превзошедший хитростью всех смертных, слава моя восходит до небес». Он называет некое постоянное свое качество. Это еще «Илиада» — Ахилл вспыльчив, Одиссей хитер.
«Я обитаю на Итаке… и нет для меня ничего слаще этой земли». Две только строки Одиссей посвятил своей хитрости и славе, восходящей до небес, десять — каменистой Итаке, на которой нет места даже для конского пастбища. В отличие от тех героев Одиссей — не сам по себе, он становится Одиссеем только вместе с Итакой.
Кирка-Цирцея касается Одиссея своим жезлом: «Иди, хрюкай вместе со свиньями». Вокруг вместо человеческих лиц — свиные рыла, спутников героя волшебница уже превратила в домашний скот. Но Одиссей не поддается колдовству, и Цирцея отступает в испуге: «Или ты — Одиссей полютропос, что у тебя в душе неизменный нус?»
У ахейцев не было единого понятия «душа». «Псюхе», психея, вопреки современной терминологии, почти не проявляла себя при жизни — это посмертная душа, призрак, обитающий в Аиде. «Тюмос», дух, наполняющий легкие, податлив эмоциям — это он побуждает человека то ко гневу, то к печали, то к радости. «Нус» ближе к нашему «разуму» (впоследствии его обожествит в качестве правителя вселенной Анаксагор), это постоянное внутреннее качество, которое вместе с тем предполагает и внешнее проявление, — так, Одиссей, лишь мимоходом посещая различные народы, успел узнать их «нус», то есть «обычай».
«Неизменный нус» Одиссея предполагает сохранение не только разума, но собственного облика (превращенные в свиней спутники обливаются слезами, то есть человеческого сознания они не утратили, однако «нус» у них уже не тот). Для греков форма и содержание нерасторжимы, и греческая «идея», превращенная в термин Платоном, первоначально обозначала «внешний вид», нечто «видное».
Удивительно, как эта авантюрная повесть противится метаморфозам. Казалось бы, жанр обязывает — побольше чудес, спецэффектов, и ведь Одиссей ничем не скован в своем рассказе, он один уцелел, свидетелей нет, так что, вполне вероятно, кое-что он и приврал в повести, рассказанной феакам, — и все же он не переступает определенную грань, поэзия не превращается в кошмар с расплывчатыми формами. На всю поэму имеется одно лишь волшебное превращение — на острове Цирцеи, — но и перед ним Одиссей устоял и спутникам вернул прежний образ.
«Неизменный нус» Одиссея оберегает его не только от внутренней, но и от внешней метаморфозы. Что же означает в этом контексте эпитет «полютропос»? Понимание его затруднено, поскольку у Гомера он встречается всего дважды — здесь и в первой строке «Одиссеи», — в художественной литературе он отсутствует и возникает гораздо позже в диалогах Платона и в научных трактатах преимущественно медицинского и биологического характера, в паре с «пойкилос»; словари также предлагают в качестве синонима «пойкилос», то есть «пестрый», «многовидный», «полиморфный», а затем и «псеудес», «лживый», — вновь хитрость становится определяющим качеством Одиссея. Первая часть эпитета присутствует во многих современных терминах в виде «поли» («много»); проблему представляет в особенности второй компонент сложного слова — «тропос» от «трепо», «поворачивать, изменять». Слово «тропос» означает и буквально «поворот», и «прием» или «способ действия», и «поэтический образ» («троп»), и изменение, принятие нового облика. Если мы примем первые два значения, «полютропос» окажется синонимом постоянных эпитетов Одиссея — «изворотливый», «многохитростный». В таком случае, мы недалеко ушли от «Илиады» — хитрость есть некое неотъемлемое свойство Одиссея, и оно заявлено как в начале поэмы, так и в тот миг, когда он устоял перед превращением, сохранил свое постоянное качество. Если же мы примем значение «многообразный», оно может показаться на редкость неуместным в ситуации, когда Одиссей как раз отказывается принять новый облик.