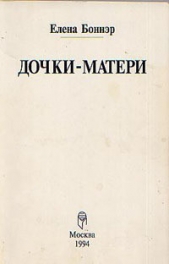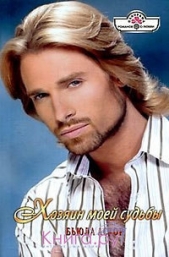Всемирная Выставка
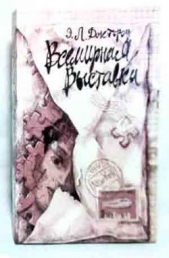
Всемирная Выставка читать книгу онлайн
Э.Л. Доктороу — известный американский писатель, автор многих романов и повестей.
В романе "Всемирная выставка" (1985) перед читателем протекает, то ускоряя свой бег, то замедляя, поток воспоминаний мальчика из небогатой еврейской семьи, растущего в 30-е годы в Бронксе, одном из самых непривилегированных районов Нью-Йорка. В романе много печали, но и много света, любви к человеку, к жизни.
Читателя ждет встреча с высокой литературой, пронизанной столь необходимым сегодня гуманистическим чувством, сознанием высшей ценности человеческой жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зато у меня было теперь настоящее дело — занятия интереснее мне не подворачивалось сроду. Жизнь опять была прекрасна. Когда мать куда-то ушла, я обшарил весь дом в поисках приличной фотографии — такой, чтобы не стыдно было приложить к сочинению. Фотографию требуют, видимо, по двум причинам: во-первых, убедиться, что писал именно ты, во-вторых — если сочинение им понравится, — чтобы показать фото скульптору, который будет делать статую, и спросить его, достаточно ли твоя внешность привлекательна для такой задачи. Ну и опять-таки, если одинаково хорошими окажутся два сочинения, выберут, наверное, того, кто посимпатичнее.
Я нашел золотистую жестяную коробку из-под конфет «Пиквик», в которой хранились семейные фотографии. Лучше всего я выглядел на снимке, сделанном перед операцией: тогда я еще не растолстел и линия подбородка была тверже. Снимал Дональд отцовским «кодаком». Фото, конечно, не из новейших — дело было летом, и не прошлым даже, а раньше, в те времена, когда у отца еще были деньги и он в каникулы вывез нас на настоящую ферму в Коннектикуте. Зато снято очень крупным планом, так что не видно, какой я еще коротышка. А то в самом деле: фотография пойдет вместе с текстом, текст будет хорошим, и что ж получится, если я пошлю снимок, на котором мальчик явно слишком маленький, чтобы так здорово все написать! Но эта, в общем, годится: четкое черно-белое фото, размер подходящий, от солнца, бьющего мне в лицо, я этак сметливо и дружелюбно щурюсь. И широкое поле позади.
В тот вечер, когда я засел наконец за сочинение, на стол перед собой я поставил эту фотографию. Стал думать о сельской жизни. Мой безбоязненный папаша любил все необычное, даже в отпуске, и вот, собравшись вместе с жившими через улицу нашими друзьями доктором Перельманом, его женой и их сыном Джеем, мы загрузились в автомобиль Перельманов и отправились на ту ферму. Причем Коннектикут — ого! — это еще дальше, чем Пелэм-Манор. Теперь мне та поездка представлялась чем-то вроде лихого рейда по тылам христианства. Похоже, маме она и тогда виделась так же. Мама вообще к этой идее отнеслась с подозрением, она предпочла бы поехать в какое-нибудь курортное место, скажем на Белое озеро в Катскильских горах, чтобы жить в настоящем отеле, где каждый вечер танцы.
Вместо того чтобы писать сочинение, я принялся вспоминать те каникулы. А что — в самом деле было что вспомнить. Ферма огромная, кругом колосятся поля, залитые щедрым солнцем… Хозяином был костистый мужчина с лошадиными зубами; помню, он все смеялся, сидя во главе длинного стола, за которым обедали все вместе — и дачники, и хозяева, и батраки в комбинезонах. Кукуруза своя, прямо с поля, свежее молоко от своих коров, цыплята и яйца из своего курятника. Давали большущие налитые помидоры, сладкий горошек, домашнее масло глыбами и хлеб, испеченный на кухне женой хозяина. Это была дородная женщина, она ходила все время в фартуке, седые волосы собраны на затылке в узел, а ее толстые красные руки то и дело мелькали у меня перед глазами, когда она выставляла на стол очередную тарелку. За столом ей помогали две ее дочери, и, когда одна из них, у которой волосы были цвета соломы, подходила ближе, отец и доктор Перельман каждый раз переглядывались. Ни с того ни с сего отец вдруг возгорелся желанием прочитать самое краткое стихотворение в англоязычной словесности.
— Называется «Диссертация на тему о древности микробов», — объявил он и прочистил горло. Все встревоженно на него поглядели. — Адама в гроб вогнал микроб, — сказал папа. Засмеялись.
Сквозь сетчатую дверь задувал ветерок, покручивал свисающие с потолка спирали клейкой бумаги. Мухи прилипали к ним прямо гроздьями, некоторые завитки были от них черным-черны. Мама не могла на это смотреть. Молоко на стол подавалось двух видов — кипяченое и парное, прямо из-под коровы. Отцу, понятное дело, хотелось, чтобы мы все попробовали парного молока. Мать мягко воспротивилась, сказав, что для нас с Дональдом она предпочла бы пастеризованное.
— Но ведь коровы проверенные, — не унимался отец. — Разве нет? — обратился он к фермеру.
— А как же! — подтвердил тот, скаля в улыбке свои лошадиные зубы. — В полном порядке коровки. — И тут же, совсем некстати, так и зашелся от кашля, сидел весь красный, судорожно хватаясь за тощую грудь. Потом прочистил горло и улыбнулся.
— Н-да-да, — со всей доступной ей дипломатичностью отозвалась мать, — но все-таки мы привыкли к пастеризованному, если позволите.
Отец уступать не желал. Он так всегда: без стеснения обсуждал самые щекотливые вопросы в самых людных местах — хоть в ресторане, хоть где, запросто; мы все не знаем, куда глаза девать, а он давай с плеча, словно мы дома одни.
— Слушай, — говорит, — да ведь во всей Новой Англии, должно быть, не осталось уже ни одной туберкулезной бациллы!
Мать стрельнула в него взглядом. Не помогло. В самозабвении отец не замечал, что и фермер, и двое сидящих с нами за столом батраков, слушая разгорающийся спор, от души веселятся. Мать начерпала нам в стаканы кипяченого молока. Отец, театрально воздев свой стакан к свету, стал наливать сырое, поднимая черпак все выше и выше, чтобы в стакане получалась роскошная пена и звук тоже раздавался бы вкусный. Затем он залпом выпил молоко, чмокнул губами и с пристуком поставил стакан на стол. Взглянул на нас и широко раскинул руки: — Вот: жив еще! — И доволен при этом несказанно. Пока он этак манипулировал, мать с полным спокойствием отодвинула от себя яйцо всмятку, в котором обнаружилось кровяное пятнышко: нельзя, нельзя.
Один из батраков разрешил нам как-то раз выйти с ним на уборку сена. Мы ехали с Дональдом в деревянной телеге, и в ее скрипе и ухабистой болтанке явственно ощущалось напряжение, с которым трудится лошадь. Повозка стала, на головы нам полетело сено. Щекотка, хохот. Потом я начал чихать, пришлось слезть. Коровы на лугах охлестывали себя хвостами, и оводы взмывали с их боков. Коровьи лепешки, похожие на кругляки шоколадного пудинга, попадались на усеянном валунами лугу повсеместно. Пошли на озеро, прокатились туда-сюда на лодке, и выяснилось, что оно сплошь заросло. Отец и еще один дачник раздобыли цепь, и мы, работая веслами, волокли ее за лодкой, выдирая донную траву, пока у берега не расчистилось место для купания. Здесь мы поплавали, или, точнее, плавали отец и Дональд. Я немножко побултыхался и ушел от них на горку поиграть в одиночестве. Сияло солнце, и — что меня особенно изумляло — никто не смотрел за животными, а они, как ни странно, не проявляли желания сбежать. Наша Пятнуха, например, тут же сбегала, едва ее с поводка спустишь. На «ферме» в парке животные были в загонах и клетках. А тут, сколько охватывает глаз, всюду стоят коровы — и ведь без всякой загородки! Пасутся лошади — и ведь ни к чему не привязаны! По двору бегают куры, а собака, на которой нет даже ошейника, спит себе у крыльца под ногами у дачниц. Никогда прежде я не видел, чтобы на животных совсем не обращали внимания. Казалось, и солнце, и небо тоже какие-то раскованные, беспривязные, что ли; на этой ферме чувствовалась удивительная свобода — бегай где хочешь, смотри, и все равно ты дома. Вечером воздух похолодал, после ужина мы надели свитера, а в кровати меня ожидало мягкое пуховое одеяло и кусачие крахмальные простыни. Я лег и под тихие разговоры взрослых на крыльце возле моего окошка стал понемногу задремывать. Ночью голоса сверчков и лягушек звучали громко, как мой собственный пульс. Лицо я прикрыл пододеяльником — из-за комаров, которых в комнате было полно. Можно было бы и похныкать, пожаловаться, всех на ноги поднять, если бы не отец: когда я ему еще днем — а был это первый день нашего приезда — показал на себе комариный укус, он как-то очень забавно на это откликнулся: «Эй, Генри, „Лесной" давай, покажи им!» Сказал и засмеялся. И я из своего подпростынного убежища отзывался на комариный писк у себя над ухом теми же словами: «Эй, лесной Генри, давай, покажи им!», хотя не было здесь ни противомоскитного одеколона «Лесной», ни прыскалки, куда его можно было бы залить, ни тем более никакого Генри.