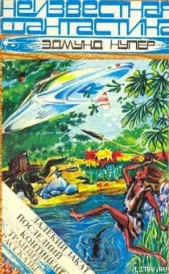Новый Мир ( № 5 2006)
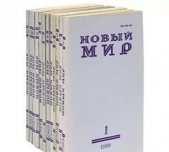
Новый Мир ( № 5 2006) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Математика строится на априорных — предшествующих опыту — суждениях, и одно из главных таких суждений — это представления о пространстве и времени. Сами «доказательства», или «антиномии чистого разума», приведенные Кантом, на основании которых он и делал вывод о невозможности помыслить пространство и время, поскольку они в одно и то же время и ограничены, и не ограничены, были подвергнуты Гегелем очень жесткой критике4 . Но это не изменило общего отношения к математике ни у самих математиков, ни у философов, и через полстолетия после Канта представление о математике как о независимом и достоверном источнике истины постепенно укрепилось и в более широком общественном сознании. Математика, исходя из трансцендентальных аксиом и следуя строгим самообоснованным правилам логического вывода, способна отделить истину от лжи. Гипотеза Канта стала аксиомой для дилетантов. «Не стану я, разумеется, перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что чтбо там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров, потому что и профессора русские весьма часто у нас теперь те же русские мальчики. А потому обхожу все гипотезы»5 . Гипотеза о независимости математики поставила результаты математических выводов как бы «над» и «вне» эмпирического опыта, и математика приобрела очень высокий, чуть ли не абсолютный авторитет в глазах не только русских, но и европейских профессоров. Да и сами математики первой половины XIX века были убеждены, что внутренние проблемы — такие, например, как строгое понятие действительного числа или определение непрерывности, — будут разрешены в ближайшее время. Хотя необходимо заметить, что такой беспечности и самоуспокоенности, как в физике конца XIX века, когда профессор физики мог спокойно заявить, что все уже разрешено и осталось только несколько частных задач, — такого мертвого штиля в математике не было никогда.
То, что было внутренне непротиворечивым и согласованным, что было строго выведено из безусловных оснований (аксиом, постулатов, основных или неопределимых понятий, которые в свою очередь возводились к априорному умозрению), получало статус независимой истины, независимой в первую очередь от эмпирического опыта, от реального положения в пространстве и времени. Достоевский напрасно упрекал именно «русских мальчиков» в том, что у них гипотезы превращаются в аксиомы. Это, к сожалению, верно по отношению к любому непрофессиональному взгляду на теорию. Человек (или человечество) чаще всего либо целиком ее принимает и кладет кирпичиком в свою картину мироздания, либо целиком ее отвергает.
Дилетанты в первой половине XIX века почитали математику самой внутренне обоснованной дисциплиной и повторяли торжественные слова Канта о том, что во всякой науке ровно столько науки, сколько в ней математики. В то же время математики полностью отдавали себе отчет в том, например, что они очень нечетко представляют себе, почему возможны те или иные манипуляции с бесконечными множествами, в первую очередь с бесконечными суммами (рядами). (Например, с таким знакомым со школьной скамьи объектом, как бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, — даже здесь было много сомнительных допущений, хотя формулой суммы этой прогрессии уже вовсю пользовались несколько столетий.) Но успехи математики — в первую очередь ее приложений в астрономии и механике — были столь впечатляющи, что не доверять ей было очень трудно. И когда математические исследования из каких-то, казалось бы, внутренних потребностей привели к переформулированию геометрии Евклида, это вызвало, с одной стороны, удивление и сопротивление, а с другой — почти благоговение: математика перестала считаться с реальностью вообще. Она более всего занята собой — она автономна, а следовательно, независима от конечного реального мира. Математика демонстрировала мощь и независимость языка — языка, способного, развиваясь только по законам внутреннего построения высказывания, выводить истины реального мира — то есть выяснять, что же в этом реальном мире соответствует высоким и чистым законам истинного бытия. И потому у Достоевского, хорошо знакомого с языком математики, не могло не возникнуть подозрения, что этот язык способен доказать (или по крайней мере строго и согласованно поставить формальную задачу), чтбо есть Истина. И Достоевский не мог исключить возможность, что это доказательство обойдется без Христа. Достоевский пишет в письме к Фонвизиной: «…если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»6 . Достоевский хочет остаться с Христом, но сделать это ему будет очень трудно, если он столкнется с математическим доказательством, которое строго обоснует, что Истина в Христе не нуждается. Это будет трудный выбор, причем не абсолютно однозначный: «мне лучше хотелось бы остаться со Христом» — это всего лишь условное, гипотетическое утверждение. А Достоевский допускает существование такого доказательства: с его точки зрения, оно вполне может быть найдено. Достоевский пишет: «Социалисты хотят переродить человека, освободить его, представить его без Бога и без семейства. Они заключают, что, изменив насильно экономический быт его, цели достигнут. Но человек изменится не от внешних причин, а не иначе как от перемены нравственной. Раньше не оставит Бога, как уверившись математически…»7
Математика для Достоевского обладает свойством внутренней полной убедительности. Математическое доказательство не есть «внешняя причина», поскольку она способна продемонстрировать («вывести» — буквально «вывести из темноты») структуру бытия. Это очень сильное допущение. Сделав его, Достоевский не мог не попробовать самостоятельно провести это математическое доказательство — доказать (или опровергнуть) то, что истина вне Христа. Конечно, писатель не обладал тем математическим аппаратом, который использовали современные ему математики в своих исследованиях переднего края науки. Но Достоевский очень чутко ощущал проблематику, к которой подходила математическая мысль. В первую очередь это — исследование оснований математики: геометрии пространства и теории актуально-бесконечных множеств, выяснение того, насколько математическая наука на самом деле строгая дисциплина.
2. Евклидов ум
Достоевский самостоятельно предпринимает доказательство того, что Истина может обойтись без Христа, причем доказательство математически строгое (насколько это возможно без использования специальной символики и терминологии), в основном в трех главах романа «Братья Карамазовы» — «Братья знакомятся», «Бунт» и «Великий инквизитор».
«…если Бог есть и если Он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал Он ее по эвклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее — всё бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне про Бога понять.
Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще всего насчет Бога: есть ли Он или нет? Всё это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. Итак, принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его, и цель Его, нам совершенно уж неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое Само „бе к Богу” и которое есть само Бог, ну и прочее и прочее, и так далее в бесконечность. Слов-то много на этот счет наделано. Кажется, уж я на хорошей дороге — а? Ну так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого Божьего — не принимаю и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать всё, что случилось с людьми, — пусть, пусть это всё будет и явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять!» (т. 9, стр. 264 — 265).