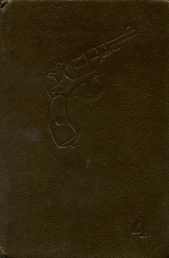Новый мир. № 8, 2002
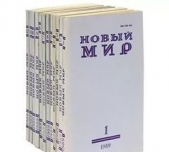
Новый мир. № 8, 2002 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так на языке Инквизитора, — ну а что мы находим у Достоевского на его личном и чистом, собственном языке? Один из путей к «Великому инквизитору» вел от записи 1864 года «Маша лежит на столе…», где сказано: «Итак, человек есть на земле существо только развивающееся, след., не оконченное, а переходное <…> на земле человек в состоянии переходном» (20, 172–173). Вскоре вослед Достоевскому Ницше провозгласит свое знаменитое: человек — это мост, переход (Ьbergang) по канату над пропастью между животным и сверхчеловеком. Сближение, совпадение словаря здесь, наверное, кое-что значит. Это начало 1880-х годов, и Ницше еще не знает о Достоевском. И Достоевский не успел узнать этой мысли Ницше, но ее успел узнать Владимир Соловьев и, отзываясь на нее как на опасный соблазн, начал тем не менее так разговор о ней (1897): «Эта мысль прежде всего привлекает своею истинностью» [49]. Затем двумя годами позже (1899) он написал об «идее сверхчеловека» еще одну статью, где сказал: «Всякая идея сама по себе есть ведь только умственное окошко» [50] — и признал идею Ницше окошком на истину, но в искажающем преломлении. И назвал сверхчеловеком своего антихриста в предсмертной повести о нем.
Достоевский слова «сверхчеловек» не мог бы себе позволить. Но он помыслил в той же записи 1864 года некое будущее иное состояние человека и не знал, как его назвать, — не мог назвать его вообще «человеческим», поскольку «будущее существо», к которому нынешний человек — лишь существо переходное, «вряд ли будет и называться человеком (след., и понятия мы не имеем, какими будем мы существами)», как не мог и локализовать это будущее состояние в пространстве и времени: «На какой планете, в каком центре, в окончательном ли центре, то есть в лоне всеобщего синтеза, то есть Бога? — мы не знаем» (20, 173). Мысль Достоевского об этом будущем состоянии была в колебании: он весьма неопределенно мыслил его трансцендентно-имманентным, в духе своего христианского историзма и до конца дней не оставлявшего его хилиастического чаяния, сказавшегося особенно в Пушкинской речи.
Так или иначе, он мыслил в этом странном мечтании человеческую природу то ли исторически, то ли мистически, мистически-исторически, исторически-трансцендентно, преходящей, и также некий абсолютный рубеж на этом пути «прехождения» человека: «Сам Христос <…> предрек, что до конца мира будет борьба и развитие (учение о мече)…» (20, 173). Вскоре за этой записью Раскольников повторит за своим автором, в самом странном тоже контексте, неожиданно так заключив свое ницшеанское, говоря из будущего, рассуждение о двух разрядах людей: «И — vive la guerre йternelle, — до Нового Иерусалима, разумеется!» И на удивленный вопрос Порфирия Петровича твердо ответит, что верует в Новый Иерусалим и в воскресение Лазаря «буквально» (6, 201). Типичный у Достоевского случай и творческий ход — как собственная мысль его переходит в иную мысль его героя — путем соприкосновения и творческого отчуждения-преломления, не теряя при этом связи с источником — мыслью автора. Так и «недоделанные пробные существа» как отчужденное от автора суждение о человеке сохраняло, с радикально перемещенным акцентом, связь с собственной авторской мыслью о человеке как существе не оконченном, переходном. Переход же мыслился как христианское отрицание человеком его природы: «Итак, человек стремится на земле к идеалу, противуположному его натуре» (20, 175). Если не забывать при этом о «твари дрожащей», явившейся в его мире следом за этой записью автора, то антитезу ей в поддержку записи мог он найти в новозаветном понятии «новой твари»: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5: 17). Тварь дрожащая как «натура» и новая тварь — идеал, противоположный натуре.
В XIX веке, ближе к его концу, открылось умственное окошко, в которое напряженно стали смотреть такие умы, как Достоевский, Ницше, Соловьев, и другие за ними. Это была оценка человека как заново и по-новому вставший вопрос, вставший заново на историческом повороте. Оценка человека как родового существа в новейшей истории человечества, открывшейся революцией конца XVIII столетия. Оценка человека в такой всемирной ситуации, в которой протагонистами на исторической сцене выступили широкие массовые движения и выдвигаемый ими и управляющий ими тоталитарный герой, в Наполеоне впервые новому веку явившийся. По случаю Наполеона и сформулировал Пушкин презрение к человечеству как современную тему.
Достоевский был включен сильнейшим образом в ту утопию о человеке в виде идеи нового человека, которая так или иначе, в разных идейных вариантах, проходит сквозь наш XIX век начиная, пожалуй, с Гоголя — вплоть до ницшеанского человека-артиста у Блока в результате «крушения гуманизма» и до, затем, советского «нового человека». Это уже в следующем веке, — но к тому, что будет в следующем веке, в нашем только что скончавшемся веке все и вело. Надо сказать, оглядываясь на родоначальника нашего тематического сюжета, что Пушкин тему презрения как современную тему открыл, пережил и изжил ее лирически, но мог и в конце пути воскликнуть: «О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!» В главном он все же тему поставил вне себя, как тему сознания «современного человека». Но Пушкин был и чужд утопии о человеке, его поэтическое суждение о человеке было широким и трезво-уравновешенным, и мысль о «новом человеке», как она окрепла после, о коренном изменении человека, метаморфозе его природы, какая уже была мыслью Гоголя, с его ожиданием нового Чичикова и нового Плюшкина в третьем томе поэмы, — она еще не была мыслью Пушкина. Самое слово один раз возникло у Пушкина в «Анджело» как обращение к милосердию человека-властителя: «И милость нежная твоими дхнет устами, / И новый человек ты будешь». Слово это светится новозаветным светом — и все же это в пушкинском словаре необычное слово, пушкинской философии человека оно, в общем, чуждо и появляется в его текстах единственный раз (при этом будучи взятым из английского текста шекспировской «Меры за меру»); поэтому, вероятно, в пушкинской критике оно совсем и не замечено. «Не оптимист и не мечтатель <…> Пушкин никогда не думал о воспитании или совершенствовании человечества. Прямой реалист, он предпочитал гаданиям о будущем изучение прошлого и идиллии естественного совершенства — познание глубин человеческого сердца» [51].
«Все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы» — формулирует Инквизитор главную тему всего исторического процесса. Именно это и становилось предметом объявленного умами эпохи процесса «переоценки всех ценностей», главной из которых и был человек. Презрение к человеку и утопия о человеке были полюсами процесса. Тема глядела в XX век. Инквизитор Христу возвращал его высокое понятие о человеке как утопию: «Но вот ты теперь увидел этих „свободных“ людей». Поэма как произведение Ивана Карамазова — антиутопия, как произведение Достоевского — антиантиутопия. В самом конце уже века на поэму была выразительная реакция — собственная антиутопия Константина Леонтьева в пику утопии Достоевского с его «всемирной любовью» и в поддержку антиутопии Инквизитора (и Ивана). В предсмертных письмах Розанову, только что напечатавшему книгу свою о «легенде», Леонтьев пророчил — пророчил злорадно (это слово в обоих образовавших его значениях здесь подходит, поскольку он своеобразно приветствовал эту будущую картину) — неминуемый скорый социализм как «грядущее рабство» и рисовал с известным удовольствием картину «хронических жестокостей, без которых нельзя ничего из человеческого материала надолго построить». Такова была его окончательная оценка «человеческого материала». «И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому. А иначе все будет либо кисель, либо анархия…» [52] Исторически Леонтьев оказался прав — в грядущей уже в скором времени нашей истории Инквизитор такой язык Достоевскому показал. И многие из нас могли увидеть это своими глазами. Но могли увидеть и то, что путем «хронических жестокостей» нельзя из человеческого материала что-либо так уж надолго построить.