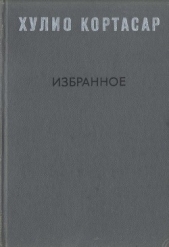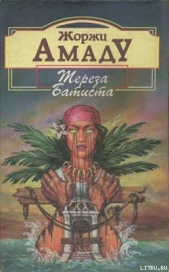Чудесные занятия

Чудесные занятия читать книгу онлайн
Хулио Кортасар (1914—1984) — классик не только аргентинской, но и мировой литературы XX столетия. В настоящий сборник вошли избранные рассказы писателя, созданные им более чем за тридцать лет. Большинство переводов публикуется впервые, в том числе и перевод пьесы «Цари».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пьер ерзает на стуле, ищет сигареты. В конце концов, и Мишель мало что знает о нем. Она совсем не любопытна, хотя внимательно и серьезно выслушивает откровения и способна сопереживать, — будь то умиление котенком, вдруг появившимся из-под ворот, восхищение грозой над Сите, любование листком клевера или восторг от пластинки Джерри Маллигана [130]. Заряженная энергией энтузиазма, Мишель может быть и внимательной, и серьезной, в равной степени умея и слушать, и рассказывать. Именно поэтому от встречи к встрече, от беседы к беседе они все более уединялись, и это уединение становилось одиночеством двоих среди толпы. Пусть их общение складывалось из немногих разговоров о политике, о прочитанных романах и из походов в кино, с каждым разом их поцелуи становились все более страстными, и ему было позволено гладить ее шею, проводить рукой по телу, касаться грудей и бесконечно повторять вопрос, который оставался без ответа. Идет дождь, спрячемся в парадном; солнце припекает, войдем в этот книжный магазин, завтра я тебя представлю Бабетте, это моя старая подруга, она тебе понравится. А потом окажется, что у Бабетты друг — давнишний приятель Хавьера, который Пьеру — лучший друг, и круг начнет замыкаться: иногда у Бабетты и Ролана дома, порой на работе у Хавьера или по вечерам в кафе Латинского квартала. Пьер испытывает чувство благодарности — за то, что Бабетта и Ролан такие хорошие друзья Мишель, за то, что они тактично ее опекают, хотя сама Мишель в этом не нуждается. Здесь никто не судачит о других, предпочтение отдается серьезным темам — политике или судебным процессам, ну а больше всего им нравится с удовольствием поглядывать друг на друга, обмениваться сигаретами, просиживать в кафе и просто жить, чувствуя себя в окружении друзей. Ему повезло, что его приняли и позволили бывать у них; они непросты: знают самые надежные способы отшить чужаков. «Они мне нравятся», — говорит сам себе Пьер, допивая пиво. Быть может, они думают, что он уже любовник Мишель, по крайней мере Хавьер, видимо, так думает, и у него не уложилось бы в голове, что все это время Мишель может отказывать Пьеру, без явных причин, просто отказывать, но продолжать с ним встречаться, вместе гулять, выслушивать Пьера и говорить сама. Даже к странности можно привыкнуть, можно поверить, что тайна сама собой объяснится, ведь не всякий впустит к себе в душу; можно принять и неприемлемое: прощаться на углу или в кафе, когда все так просто, и лестница со стеклянным шаром у самого начала перил, она ведет к встрече, к истинной встрече. Но Мишель сказала: никакого стеклянного шара нет.
На лице высокого и худого Хавьера — бесконечная усталость. Рассматривая палец с желтым пятном, он рассказывает о каких-то экспериментах, о биологии как источнике скептицизма.
Пьер спрашивает:
— С тобой не случается так, что вдруг ты начинаешь думать о вещах, совершенно не связанных с тем, о чем думал?
— Они бывают совершенно не связаны с моей рабочей гипотезой, и только, — говорит Хавьер.
— В последние дни я чувствую себя очень странно. Ты должен дать мне что-нибудь, что-то наподобие объективатора.
— Объективатора? — говорит Хавьер. — Такого не существует, старина.
— Я слишком много думаю о самом себе, — говорит Пьер. — Это какое-то идиотское наваждение.
— А Мишель тебя не объективирует?
— Как раз вчера… мне пришло в голову, что…
Он слышит свой голос, видит Хавьера, смотрящего на него, видит отражение Хавьера в зеркале — затылок Хавьера, — видит самого себя, говорящего с Хавьером (но почему мне должно было прийти в голову, что существует стеклянный шар у начала перил?), который время от времени кивает: это профессиональный жест, кажущийся столь смешным вне стен рабочего кабинета, когда на враче нет халата, который придает ему вес и облекает иными правами.
— Ангьен, — говорит Хавьер. — Об этом ты не волнуйся, я всегда путаю Ле-Ман с Мантоном. Это, наверное, вина какой-нибудь учительницы, оттуда, из далекого детства.
«Im wunderschönen Monat Mai…» — звучит в памяти Пьера.
— Если будешь плохо спать, скажи мне, и я тебе чего-нибудь дам, — говорит Хавьер. — Как бы то ни было, этих пятнадцати дней в раю, я уверен, тебе будет достаточно. Нет ничего лучше, чем разделить ложе, это полностью проясняет мысли, иной раз даже помогает покончить с ними, — что означает спокойствие.
Может быть, если бы он больше работал, больше уставал, занялся бы обустройством своей комнаты или ходил бы до факультета пешком, а не садился в автобус. Если бы он должен был зарабатывать эти семьдесят тысяч франков, которые присылают родители. Опершись о парапет Нового моста, Пьер наблюдает, как проплывают баркасы, и ощущает на шее и плечах тепло летнего солнца. Какие-то девушки смеются, играя во что-то; слышится цокот скачущей лошади, рыжеволосый велосипедист протяжно свистит, проезжая мимо девушек, они смеются еще сильнее, и вдруг словно взметнулся смерч сухих листьев и в одно мгновение стер его лицо, как будто опрокинув в какую-то ужасную и черную бездну.
Пьер трет глаза, медленно выпрямляется. Это были не слова и также не видение, а нечто среднее между тем и другим: образ, распавшийся на множество слов, как сухие листья на земле (взметнувшиеся и ударившие прямо в лицо). Он замечает, что его правая рука, лежащая на парапете, дрожит. Он сжимает пальцы: борется с дрожью, пока в конце концов не овладевает собой. Хавьер, наверное, ушел уже далеко, и бесполезно бежать за ним, чтобы вписать новую историю в его коллекцию нелепостей. «Сухие листья? — сказал бы, вероятно, Хавьер. — Но на Новом мосту нет сухих листьев». Как будто он сам не знает, что на Новом мосту нет сухих листьев: они — в Ан-гьене.
А сейчас, дорогая, я буду думать о тебе, всю ночь только о тебе. Буду думать только о тебе, это — единственный способ почувствовать самого себя, почувствовать тебя в самом центре моего существа, как некое дерево, и, освобождаясь понемногу от ствола, поддерживающего и управляющего мною, осторожно реять вокруг тебя, ощущая воздух каждым листом (зеленые, зеленые, я сам и ты тоже: ствол живительных сил и зеленые листья — зеленые, зеленые), но не улетая далеко от тебя и не допуская, чтобы что-то постороннее вклинилось между мной и тобой, отвлекло меня от тебя хоть на секунду, лишило знания, что эта ночь вращается и движется к восходу, и там, на другой стороне, где ты живешь и сейчас спишь, также будет ночь, когда мы вместе приедем и войдем в твой дом, поднимемся по ступенькам крыльца, зажжем свет, погладим твою собаку, выпьем кофе и так долго-долго будем смотреть друг другу в глаза, прежде чем я обниму тебя (почувствовать тебя в самом центре моего существа, как некое дерево) и поведу тебя к лестнице (где нет никакого стеклянного шара), и начнем подниматься, подниматься; дверь заперта, но ключ у меня в кармане…
Пьер вскакивает с кровати, сует голову под кран. Думать только о тебе, но как же могло случиться, что его мысли — сплошное темное и глухое желание, где Мишель уже не Мишель (почувствовать тебя в самом центре моего существа, как дерево), где, поднимаясь по лестнице, не удается почувствовать ее в своих объятиях, потому что, едва ступив па ступеньку, он увидел стеклянный шар и оказался один — один он поднимается по лестнице, а Мишель — наверху, за запертой дверью, и не знает, что у него есть ключ, он поднимается.
Он вытирает лицо, распахивает окно навстречу свежести раннего утра. На улице какой-то пьяный сам с собой о чем-то дружелюбно рассуждает, его качает из стороны в сторону, и кажется, будто он плывет в вязкой воде. Он что-то мурлычет, двигаясь туда-сюда, как будто исполняя нечто подобное старинному церемониальному танцу в гризайлевых сумерках [131], которые еще окутывают брусчатку и закрытые порталы. «Als alle Knospen sprangen», — пересохшие губы Пьера едва слышно произносят эти слова, которые сливаются с доносящимся снизу пьяным бормотанием, не имеющим ничего общего с мелодией, но и слова тоже ни с чем ничего общего не имеют: они приходят, как и все остальное, на миг сливаясь с жизнью, а потом возникает озлобление, душевное беспокойство и какая-то пустота, обнажающая лохмотья, что, сцепляясь, образуют такие разные вещи, как двуствольное ружье, груда сухих листьев, пьяный, ритмично танцующий что-то похожее на павану [132], делающий реверансы, при которых причудливо колышутся полы его одежды, а он сам в конце концов спотыкается и невнятно что-то бормочет.