Хроники неотложного
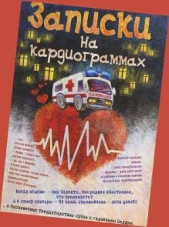
Хроники неотложного читать книгу онлайн
Если ли среди нас хоть один человек, который не клял бы последними словами врачей скорой помощи? И есть ли хоть один человек, который ни разу не вызывал скорую помощь?
В этой книге то, что думают они сами - врачи, для кого супостаты, для кого спасители.
"Записки на кардиограммах" смешные, страшно смешные, а для кого-то просто страшные.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Клюется — чувствует, что не брошу. Стандартный вариант: хорошая, пока все хорошо.
Ты приедешь ко мне?
Да даже и думать забудь!
Алая, вся в наклейках, легковуха рывком перекинулась от осевой, замерев прямо напротив. Тютелька в тютельку — протягиваешь руку и открываешь, не сходя с места.
Мужик. Черный, худой, остроносый. Взглядом — куда?
— Харьков.
Жестом — садись.
Сели. Крохотный руль, каркас гнутых труб и ремни, будто на истребителе. Профессионал. Рванул — в кресло вдавило. Стрелка вправо: сто двадцать… сто тридцать… сто сорок, легко, как перышко, и четко, как по бобслейному желобу. Сто пятьдесят. Он бросил взгляд в мою сторону:
— Затянись.
Затянул — как с машиной слился.
— К полету готов, сэр!
Улыбка прищуром, взгляд в зеркало. Руку назад — на ста пятидесяти! — двумя движениями стреножил Яну.
— Давит.
— Знаю.
Лаконичный, как царь спартанцев. Только я наладился потрындеть, как был остановлен жестом: после, сударь, после! На ста шестидесяти он склонился к торпеде, прислушиваясь и работая газом, — асфальт влетал в лобовое, второй раз за день холодило под ложечкой.
— Страшно?
Я кивнул. Стрелка, увлекшись, обнюхивала отметку сто семьдесят.
— Ничего.
То и дело включался антирадар; гаишники, оставаясь с носом, появлялись только минут через пять. Миновав по всем правилам Запорожье, полетели к Днепропетровску. Над белыми полосами разметки густел мрачный, концентрированный сумрак. Горели фары. В огромных щитах мелькали желтые отблески. Я сидел, радуясь тому, что пристегнут к уютной машине.
Взлетели по лепестку на развязку. Неподалеку попыхивали разряды, и деревья, соря ветвями, умоляюще тянули к нам рваные руки — через поля, неотвратимый, как конница Чингисхана, мчался дождевой шквал. Леса вдоль обочины волновались, полоща сучьями; у них еще было сухо. Мы уходили с гарантией, но гроза, наступая по всему фронту, загнула фланг, встретив нас прямо в лоб.
Обрушилось, ливануло, забарабанив россыпью в крышу. Видимость — ноль, и он сбросил до семидесяти, выпутываясь из потоков воды.
Тянуло в сон.
— Я подремлю, можно?
Он кивнул: валяй. Вот все бы так, черт возьми!
— В Харькове где?
Я посмотрел на Яну — спит.
— Железнодорожный вокзал.
Только глаза закрыл — и уже дома, на станции, в форме, расписываюсь за приход. Виола мне за опоздание выговаривает. Сметанин с Егоркой на вызов выходят.
— Кто у вас за рулем нынче?
Они смотрят на меня изумленно, потом вспоминают:
— А-а, ты же на больняке был… Все, Феликс, без водил работаем.
С ума сойти!
— Ау кого прав нет?
— А они не нужны.
Ничего не понимаю.
Входят девчонки с уличной [90], за ними долговязый и белобрысый парень, почему-то с парашютом в охапке.
— Это кто?
— Американец. На взлете нас срезать хотел.
— Как это?
— Ну, так. Подкараулил, спикировал; хорошо, движки новые — вытянули. Разойтись на форсаже веером, зажали его и подожгли — не ожидал, бедолага, еле прыгнуть успел. Хороший паренек, симпатичный, побалуемся ночью втроем…
Влезает диспетчер.
— Не выйдет — вам же его госпитализировать надо.
— Не-е, мы его амбулаторным запишем…
В полном а…уе выхожу покурить — от порога степь, и шеренга узких, вытянутых как уклейки, «мессершмиттов». Валя в один, Егорка в другой, и оба взлетают. Станишевский, сидя на лавочке, сетует, что он только из института и командиром звена ему летать стрем, побыть бы, для начала, ведомым с полгода, а в идеале — вторым пилотом на бомбере; на что Леха — ура, она опять с нами! — резонно замечает, что на скорой вторых пилотов нет, на скорой, пардон за каламбур, все истребители…
Спал и тащился, пока не почувствовал, как трогают за плечо.
— Вокзал.
Темно. В размытых стеклах — неоном: ХАРЬКIВ.
Уже?
Круто.
— Спасибо вам.
Он кивнул.
Мы остались вдвоем. Сейчас — самое трудное.
— Тебе куда?
— В метро.
Я протянул ей оставшиеся две гривны:
— Держи. Хватит?
Она кивнула. Я шагнул к ней, обнял, тронул губами выгоревшие волоски на виске.
— Счастливо. Извини, если что не так, ладно?
— Спасибо. — Дотянулась на цыпочках, уткнувшись в полюбившееся чуть ниже уха. — Может, хотя бы переночуешь?
— Нет, Ян. Уходя — уходи.
Постояли молча, обнявшись.
— Я буду вспоминать тебя.
— Я тоже. — Прощай. — Прощай.
Электричка на Белгород шла через час, московский поезд — через двадцать минут. Я выгреб мелочь, купил стакан чая, сделал бутер из остатков салями и сидел, ужинал. Смотрел, как напротив заляпанные краской ребята-промальповцы любезничали с рюкзачной девчонкой, улыбчивой и светловолосой. Бродячая девчонка-фотограф: спальник под клапаном, коврик, бриджи милитари и тертый кофр с фототехникой. Носочки С пальчиками под ремешками сандалий.
Они пили кофе, и было видно, что им просто приятно поговорить с ней о всякой всячине. Объявили прибытие, она вытащила фотик из кофра. Отошла, прицелилась, оглянулась:
— Извините, вы не могли бы?..
— Конечно.
— Здесь все выставлено, только кнопку нажать. Какая улыбка! Я нажал, сработала вспышка.
— Спасибо.
— Да не за что. Из Крыма?
— Из Крыма.
Промальповцы записывали ей в книжку свои адреса. Книжка толстая, исписанная, подклеенная на форзацах географическими картами — э-э-эх, не пересеклись мы в Крыму, черт подери!
Вскинув рюкзак, она вышла на перрон и, заглядывая в билет, пошла вдоль состава. Следом за ней вышел и я. Мне надо было проникнуть в поезд.
Отметив купейные вагоны, я сошел с платформы, обогнул тепловоз и пошел вдоль состава, выцеливая пустые купе. Выбрал, открыл своим ключом тамбур и стал ждать.
Зажегся зеленый; по вагонам, грохоча, прошла дрожь; поезд дернулся и неслышно поплыл, блистая надраенными ободами. Встав на подножку, я проник внутрь и глянул вдоль коридора. Никого. Отсчитал купе, нырнул в теплую темноту, заперся. Все. До границы меня не потревожат, а если повезет, то и до Белгорода.
Лег на верхнюю полку, головой к багажному отделению: спрятаться, когда пойдут погранцы. Кольнуло — работаю на износ, а езжу зайцем и прячусь, как беспризорник. Ни денег, ни уважения — изгаляются, как хотят, а чуть что — складывают ладошки: ну, полно, полно, возлюбим друг друга! Сами же, гниды, сосут втихаря, и совестить их — против танковых клиньев тетрадные самолетики запускать. Один выход: а вот хер вам теперь, ребята, ищите дурачка за четыре сольдо!
Все, брат, линяю. Права международные есть, устроюсь там водилой на трак — и весь континент в кармане…
Плавал на рифе, с камерой, поднимаю голову — мама дорогая! Акула. Огромная, метров пять. Думал — все. Нет, обошлось. Прижался к кораллам, выждал: ушла…
Я подобное уже слышал, в Иордании. Муэдзин намаз творил, в репродуктор, а напряжение в сети плавало, и он от этого, как Том Уэйтс, пел…
Мне тоже теперь будет что рассказать; я вспомнил сегодняшний день и, в который раз, подивился, как много, оказывается, в него уместилось. Казалось, дорога в Крым случилась в незапамятные времена; прыжок со скалы отмечал смену эпох; первая ночь с Яной виделась Средневековьем, а вторая — девятнадцатым веком; сегодняшний день принадлежал новой истории, а этот момент — новейшей, — и ведь меньше недели прошло!
Как-то вдруг разом припомнились все утренние похмелья, бесконечные осенние полудремы, пивные визиты на станцию, и накатила щемящая, как соло в «Отель Калифорнии», печаль по бездарно прошедшим дням моей юности. Я лежал в качающейся темноте и чуть не плакал. Знал, что, приехав, напишу заявление и двину в Марокко; знал, что зимовать буду в Сочи, а весной уплыву в Турцию и проведу лето на Ближнем Востоке; знал, что ремеслом фельдшера буду теперь кормиться с октября по апрель — знал и все-таки тосковал, сжигаемый сознанием безвозвратной утраты…


























