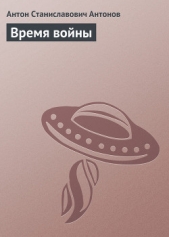Три песеты прошлого

Три песеты прошлого читать книгу онлайн
Действие романа происходит в двух временных планах: рассказ о сегодняшнем дне страны, ее социально-экономических и политических проблемах неразрывно связан с воспоминаниями о гражданской войне — ведь без осмысления прошлого невозможна последовательная демократизация Испании.[i]Примечание сканировщика. Целые главы с диалогами в один абзац, как и нумерация глав буквами — это не дефект вёрстки, всё так и было в бумажном оригинале.[/i]
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
14
Бомбы, взрывы, обезумевшие люди мечутся по улице, а над ними летят самолеты: все это так и было, в экспонатах выставки бьется живая правда. Без фильмов, без образов людей, которые оживали в свой смертный час, без возникающих и замирающих звуков (звуков песен, которые пел неизвестный солдат) — без всего этого выставка походила бы на тихий музей. Где на веки вечные погребены обломки столетий. Согласно каталогу. За стеклом. Чтобы посетители спокойно взирали на них. Сам контраст между тем, что двигалось и говорило, плакало и смеялось, убивало и умирало, и тем, что окаменело в стоп-кадре, будь то газетный заголовок или фотография, вдыхал в экспонаты жизнь. Это тревожило. Беспокоило. Расставленные на полу, как оловянные солдатики, нет, не солдатики, солдаты, большие, огромные силуэты генералов и политических деятелей, стояли — и ни с места. И невозмутимость эта производила сильное впечатление среди повседневности вчерашнего дня, которой они, казалось, не замечали, а может, и ей не было до них дела. Сиюминутную реальность обретали не столько выставленные образцы оружия (музей есть музей), сколько личные мелочи этих людей, окружавшие их как на фронте, так и в тылу. Их можно было потрогать руками. Жалкие песеты, вроде тех, из Кастельяра. Почтовые марки и штемпеля. Ты слышишь, как письмоносец выкликает твое имя, видишь в его руке адресованное тебе письмо, берешь его. ВНИМАНИЕ — ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА…
О
Ночь хороша, чудесная ночь. Сегодня днем пекло немилосердно. Как вчера, позавчера, на прошлой, на позапрошлой неделе. Уже стемнело, но цикады еще пели. Редкие. Земля, деревья, камни и воздух с наступлением ночи еще горячие, и, когда начинают петь сверчки, все еще поют и цикады. Редкие. Их становится меньше и меньше. Музыкальные сумерки. Ты как будто слушаешь два концерта. На рассвете бывает по-другому. Начинают петь цикады, и все еще поют редкие сверчки. Наверное, между камней для них сохраняются капельки росы. Или на траве. С утра загремит артиллерия и начнет перепахивать землю. Мы все этого ждем. Но сейчас — чудесная ночь. И ты ей за это благодарен. Еще душновато, но как только меркнет свет, ты ее благодаришь. Только после этого ее начинают заполнять звезды и таинственные голоса сверчков. Я кончил переписывать сводку и донесения, меня сменил другой писарь, а я побрел к ручью. Это мы так говорили. Хотя воды в нем не было ни капли. Ручей. Там растет тростник. Летают птицы. Не то мечта о воде, не то воспоминание о ней. Сажусь на камни и гляжу в ночь. До окопов — с километр, то есть до самых выдвинутых вперед стрелковых постов с бруствером и бойницами. Но не до ходов сообщения. До них метров триста. Так мне кажется. И порой, когда ветер в нашу сторону, их громкоговорители лучше слыхать, чем наши. Даже не верится. Ясно-ясно. Они называют нас красными. Краснопузыми. Вроде бы в шутку. А мы их — фашистами, фачас. Вроде бы в шутку. Но сегодня ночью не слышно ничего. Ну, конечно, минометы изредка бьют, не без этого. Но громкоговорители молчат, никакой пропаганды. И я смотрю и смотрю, поворачивась на камне то в одну, то в другую сторону. Невероятно. Нет, я хочу сказать только, что понимаю: идет война, ожесточенная война. Взять хотя бы бои в районе Эбро: фронтовые репродукторы вещают, что, мол, очень кровопролитные, об этом и газеты пишут. Но сейчас мне с трудом в это верится, нет, не так, зачем лгать на себя: я хотел бы, чтобы мне верилось с трудом, но я верю в это произвольно, одним чутьем. Верю горькой верой. Бернабе писал в своем последнем письме (если после него не затерялось следующее, как не раз бывало раньше), что возьмут наши высоту, а назавтра те ее снова отобьют, на следующий день мы опять в атаку, и есть деревни и возвышенности, начисто изрытые бомбами и снарядами, одна щебенка. Вообще Бернабе редко пишет о боях, атаках, бомбежках. А когда уж напишет, то, по-моему, как бы защищается от нападок врагов. Мне кажется, такие порывы рассказывают не меньше, чем неторопливая подробная хроника. Как, например, те хроники, которые читал нам, переводя с английского, лейтенант Сакристан, он эти хроники привозит из Мадрида, всякий раз как побывает там в увольнении. Очень давние обычно, но некоторые из них такие правдивые, такие интересные. Особенно та, которую написал американский военный корреспондент Хемингуэй — мне нравится произносить это имя, — она написана в Тортосе, он там все видел своими глазами, конечно, после того как они уже вышли к морю, может быть, всего через несколько часов или через сутки, наверное, так, потому что Винарос уже пал, но, несмотря на это, одна пехотная рота пыталась удержать шоссе Барселона — Валенсия, окопавшись на голом холме под полуденным солнцем, а пятнадцать “хейнкелей” в сопровождении немецких же истребителей — правда, непонятно было, от кого они их защищают, — сорок пять минут беспрепятственно кружили над высотой, как коршуны над павшим конем, и бомбили и методично расстреливали из пулеметов на бреющем полете республиканских солдат. И теперь, когда я говорю: Винарос, Тортоса, море, — понятное дело, кто-то без конца спрашивал меня изнутри, а потом я спросил не помню у кого: что делает Бернабе на Эбро, ведь ни черта об этом не написал в своем письме вот уже… три месяца тому назад: продвигаются там они к северу от нас или же к морю? А писем теряется уйма! Частенько Бернабе намекает на такие вещи, что я, по правде говоря… “Вот почему я говорил тебе (или что-то еще в том же духе), что мы обязаны выстоять: европейские дипломаты считают, что мы давно уж должны были проиграть войну” (что-то в этом духе). Откуда у него эти офицерские словечки: “обязаны”, “должны”? Может, он уже лейтенант? Что ж, я могу это себе представить. В конце-то концов. Лейтенант? Но черт побери. Ясное дело, они там отступают. Был перерыв в его письмах, когда мы потеряли Теруэль и все там перемешалось. Не знаю, может, он учился на каких-нибудь курсах. Это не так уж важно. Но как он там, остался с этой стороны или с той? Мог улететь на самолете. Или уплыть на судне. Конечно. Всегда там, где рубят дрова и где пахнет жареным. И все же. Бернабе. Мой брат Бернабе. Он изменил мое детство и, стало быть, мою жизнь. Ибо жизнь моя была бы другой, если б я не ходил в лавку Тимотео. С Бернабе. И на реку ловить ящериц и этих самых стрекоз. Когда везло, длинной тростинкой сбивал большую стрекозу. Огромную. Зеленую с голубым. Будто хрустальную. И большую.
Глядит на тебя огромными глазищами и пробует укусить за палец, а ее прозрачные крылья — тр-р-р-р-р-р! Забавно. Но хватит.
Он говорил себе: а все же мой брат Бернабе ненавидит войну. Он, видно, такой же пессимист, как и я. Я знаю, он очень храбрый, дело не в этом. Он совершает безумства. Спокойно. Спокойно безумствует. Но в этом самом письме, которое он послал из какого-то местечка близ Мекиненсы в двадцатых числах июля, сразу же после легендарного форсирования Эбро, — черт побери, как запаздывают письма, на целых три недели (а через три недели, Бернабе, дела наши уже не так хороши), — так вот, в этом же письме он написал что-то такое, что заставило меня почувствовать всю нелепость и несуразность войны, всю свою тоску по миру. И особенно остро я почувствовал ее в эту ночь. После того как, разумеется, перечитал письмо несколько раз. Помню, какое лицо бывало у Экспосито, когда Бернабе читал нам проповеди. Мы выслушивали их стоически. Но как четко научился он ставить любую проблему. Например, когда в Валенсии говорил нам, что нет никакой надобности совершать прогулки. Как сейчас его слышу. А что он пишет сейчас? Насытившись войной по горло, он, чтобы уйти от нее хоть ненадолго, садится писать мне письмо под деревом, разбитым снарядом, и пишет о военном перевороте. Вернее, продолжает писать о нем. Меня это сбивает с толку: ну что еще он может написать о военном государственном перевороте? Надо спросить у него об этом. Тема слишком уж интересна для меня. Кроме того, что он его уже рассмотрел с исторической точки зрения (”мы рассмотрели”, как он выражается), с точки зрения общечеловеческой всякий переворот обычно (за вычетом исключений, которые, как полагает Бернабе, мне известны, — ну как не спросить его об этом? — в частности за исключением “художественного” переворота, — ну как опять не спросить?) содержит в себе столько обмана и лицемерия, что нередко оглупляет и того, кто его совершил. Бернабе очень хочется досконально изучить этот вопрос, когда-нибудь он это и сделает. По его словам. Хочется, но он устал, что ж, подождем. Кого представляет, спрашивает он, тот, кто совершает переворот, в чем его настоящая сила? Конечно, это справедливо и в отношении военных левой ориентации. Хоть мне это и не по душе. Вот что он говорит. Но где выход? Без ответа на этот вопрос все сказанное не имеет смысла. Так в чем же его сила? Он — господин такой-то — может взять в руки пистолет или пулемет. Один пулемет. Допустим, его друзья тоже хотят участвовать в перевороте. Трое. Тридцать человек. Получится тридцать пистолетов, пулеметов. Ну, пятьдесят. Шестьдесят. Но не больше. Больше закадычных друзей у него быть не может. Надо именно так рассматривать этот вопрос, Висенте: глазами ребенка. Отделив внешнюю паутину всяких домыслов, которые якобы придают ей “глубину”. Настоящая сила того, кто совершает переворот, — в тысячах парней, не имеющих к нему никакого отношения и действующих только из страха. Подтверждается это тем, что в случае неудачи переворота с этими парнями ничего не случается. Они — рекруты. Понимаешь, рекруты. В считанные часы, даже минуты могут уклониться или впутаться в заваруху многие десятки и сотни парней, в зависимости от того, отпустят их или мобилизуют в критический момент. Подумай, солидарны ли они с тем, кто совершает переворот. Вот то-то. Среди них есть и такие, кто понятия не имеет, кто он такой. Иные впервые взялись за оружие, может быть, даже неграмотные. А возможно, есть и такие, которые грамотней его самого — почему бы и нет? — в социальном, политическом и интеллектуальном планах. И даже идеологические противники. Не кривя душой, он не может считать, что все эти парни солидарны с ним, что они разделяют его убеждения: его поддерживают пушки и грозная сила — страх, который может заставить взяться за оружие тысячи солдат. Другое дело — это уже говорю я, а не Бернабе, — что человек может чем-то заразиться, о чем хорошо было известно еще инквизиторам, и, если переворот удается, многие из этих солдат, в том числе идеологические противники того, кто произвел переворот, взойдут на колесницу победителя и будут считать, что диктатор им ближе и дороже, чем родная мать. И Бернабе говорит (теперь мне кажется, будто мы с ним разговариваем), что, по суш дела, это вопрос скромности. Не такой уж простой, нет. “Я не могу претендовать, что значу больше, чем на самом деле” — судя по всему, нужно исключительное хладнокровие, чтобы прийти к такому выводу. И тут же быстренько Бернабе начинает говорить о другом. “Ура-патриотизм — реакционное искажение патриотизма”. Эти слова я запомнил на всю жизнь. Я знаю, о чем речь. Это заголовок очерка, который он почти закончил. Обещает прислать. Думаю, читать мне его не понадобится. Вся его суть — в этом заголовке. Но до меня глубже всего доходит нечто совсем другое. Просто Бернабе хочет вернуться домой. И в университет. Хочет видеть отца и мать, меня, дядю Ригоберто, своих друзей. И людей на улицах. Чувствовать себя безымянной частицей народа.