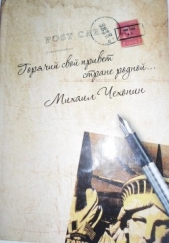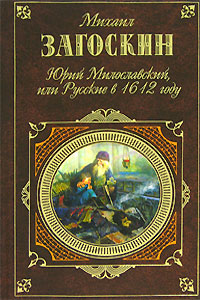Приглашенная

Приглашенная читать книгу онлайн
Юрий Георгиевич Милославский - прозаик, поэт, историк литературы, религиовед. Уроженец Харькова - там и начинал как литератор. С 1973 года в эмиграции. ПРИГЛАШЕННАЯ - это роман о природе любви, о самом ее веществе, о смерти и возрождении. Читателю предлагается вслед за рассказчиком - Николаем Усовым - погрузиться в историю юношеской несчастной любви: продолжая воздействовать на него всю жизнь и телесно, и душевно, она по сути подменила его биографию, его личность. Окраинный южный город России (место юности), потом Нью-Йорк, другая жизнь... Герой не может смириться с "невстречей" и начинает искать пути преодоления субстанции времени, чтобы она - "встреча-любовь" - все-таки состоялась... Фрагменты первой части романа были опубликованы в литературном альманахе "Рубеж" (Владивосток).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
/…/ – Колька!
– Здравствуй, Сашка! – отозвался я и, переместив кладь на левую руку – благо саквояжи, как маленький, так и побольше, были о четырех колесиках, с устойчивыми выдвижными оглоблями, – обнял встречающую меня женщину правой, стараясь не ощутить, что́ там есть под ее одеждой. – Сашка, ты совершенно замечательно сохранилась! [36]
/…/
– Сашка, а как там тетя Таня?
– Ты о ком – о маме? Ох, ты так странно о ней – «там». Да, она там . И я не знаю, как она там , Колечка. Мама умерла… уже двадцать… нет, двадцать три… Господи, двадцать три года тому назад, Колька. Ты меня первый раз спрашиваешь. Ты разве помнишь ее?
– Да. И теперь очень хорошо.
– А я – очень плохо. То есть… Конечно, я ее помню, она меня больше всех любила, но я ее… не всей собой помню, не пронзительно… Но вот ты сказал, и я сразу вспомнила: она, знаешь, не упала, а совсем спокойно, медленно, красиво присела у дверей на пол, юбку поправила – я только удивилась, что не на диван, не на стул, а прямо на пол, – и говорит: «Саша, я замучилась вдруг. Дай я посижу, а потом до магазина пойду…» Я говорю: «Мамочка, ты приляг на диван, я сама сбегаю», – а она уже не отвечает… и смотрит, смотрит…
/…/
После возникшей по моей вине паузы меня с определенным неудовольствием спросили насчет «осенних планов».
– Мы, может, раньше увидимся.
– Ты все-таки решил меня не послушаться – и приехать?
– Я уже один раз тебя послушался. И вот результат.
– Когда это, интересно?
– Условно – в одно такое чудное мгновенье, Сашка. Когда мне надо было упереться, а я пустил дело на самотек.
– Да, Колечка, – с готовностью подтвердила Александра Федоровна, – это ты правильно понял. Тебе надо было не меня слушаться, а меня… уламывать, приласкать, не обращать внимания на мои выходки. Ты как-то слишком серьезно к ним относился, с какой-то такой… Ты так меня злил этим, Колька!
– Я был юноша неопытный. И ты была девушка неопытная. Но опыт – дело наживное. Вот мы скоро увидимся – и разберемся.– Ты приезжаешь по делам, Колька. Я тебя, конечно, встречу. Увидишь меня – и перестанешь сочинять себе… Только недавно, через силу, приучилась ходить на высоких каблуках: это все-таки собирает фигуру …
В который уже раз я слышал от Сашки очередные омерзительные новые слова. Конечно, можно было бы откликнуться на них с издевкой, высмеять их кугутское [37] уродство, и Сашка стала бы сдержанней в разговорах со мною. Но разве этого я добивался? Нет. Потому что Сашка не должна была знать ничего подобного вовсе, как не знал я.
– …Если захочешь, покажу тебе город. Только ты не вздумай…
Я весьма мог вздумать. И приехать, и увидеть Александру Федоровну, что неповрежденно содержала в себе мою Сашку Чумакову – Сашку, не знающую мерзких новых слов. Это стало бы наиболее разумным решением. Не смешно ли даже предположить, что я в какое угодно чудное мгновенье был к ней настолько же близок, насколько это случилось теперь, за считаные месяцы наших телефонных разговоров? Далее. Разве я, например, тревожился прежде о ее родителях, которых едва распознавал в слепой своей погоне за их своенравной дочерью? Да и видел ли я их, пускай однажды? А теперь вот помню. Разве любопытствовал я насчет каких-то школьных ее друзей и подруг, о которых Сашка мне ничего не рассказывала? А теперь, вдобавок ко всему прочему, я стал еще и Сашкиным одноклассником, каким-нибудь этаким безответным ее обожателем с черной последней парты, глубоко изрезанной одним и тем же трехбуквенным словом и различными сдвоенными именами, чье сочетание всегда равнялось пронзенному сердцу; я уже помнил эти имена, я знал их носителей. И в такой полноте немятежной спокойной любви и тихой заботе о наших общих близких мы продолжили бы наши беседы, и все сошло бы на нет, во всё бо́льшую и бо́льшую тишину. Это было бы чудесно, однако неприменимо. Такая поездка и такая встреча со всем последующим по самой их природе стали бы для меня очередным поражением. Я бы опять взял, что дают. И не отомстил.
Для того чтобы моя грядущая работа с персональным куратором принесла желанные плоды, нам с Сашкой предстояло отречься от любых половинчатых, унизительных вариантов, освободиться от готовности в очередной – и, вероятно, последний – раз удовольствоваться малым. Я должен был прибыть для разговора в «Прометеевский Фонд» уже освобожденным.
Это не Сашка – мне, а это я покажу ей город. Что-что, а на город мы поглядим. И вплотную, и на приемлемом расстоянии: скажем, со второго уровня (в его самой возвышенной области) неоднократно воспетого моста Квинсборо 59-й улицы. Но, вопреки солидным рекомендациям, мы двинемся по нему в обратном направлении, т. е. покинем остров Манхэттен и съедем налево вниз, на Северный бульвар, у стриптиз-клуба «Думбартон II», и далее, уже по 21-й улице Квинса, – мимо китайских обжорок, магрибских пекарен и пакистанских бакалейных лавок, мимо рыжеватого кирпича многоквартирных жилых корпусов, предназначенных для недостаточных семейств, – ко мне, ко мне. А если все пойдет как следует, то вскоре мы с ней совершим главное – то, о чем я осторожно подумываю от самого дня Катиной смерти: ни у кого не спросясь, мы соберем чемоданы и покинем Нью-Йорк, который слишком уж многое обо мне знает, и уедем с ней в Майами, на теплый мутно-зеленый залив; уйдем с ней гулять по авеню Коллинз, где повсюду невредимое ар-деко; очень помню, как в первый приезд меня поразила красота здешнего уличного мусора: в нем преобладали вскрытые и выпитые до дна молодые кокосы, а также крупные окурки сигар. Но там, на Коллинз и рядом, дороговато; поэтому мы поселимся в Малой Гаване; мы сменим фамилии на каких-нибудь Мартинес-Гонзалес, и через несколько лет я вступлю в малогаванский клуб престарелых доминошников, расположенный рядом с сигарной фабрикой. Как играют – я не забыл: еще в отрочестве меня обучили игре мастера. Одно лишь вызывает мое смущение: костяшки домино не черные, а двухслойные – кремовые и прозрачно-медовые; к тому же они заметно крупнее. Привыкну; зато хороши столики с покрытием из гулкой шероховатой пластмассы.И уж там нас никто не найдет.
– Я не сказал, что приезжаю, Сашка. Я сказал, что мы увидимся.
– А что ты меня перебиваешь?! Раньше ты никогда бы на это не осмелился.
– Я просто уточнил.
– И я уточнила.
– Сашка, мы с тобой скоро увидимся так, как ты хотела.
– Колечка, я в кусках . Давай я пойду спать, а? Весь этот крымский отдых – как не было его. Его и не было. Каждый день я там готовила…
Голос А.Ф. Чумаковой становился все тише и неразборчивей, но она не замолкала, а, напротив, принялась пересказывать мне, какие же именно кушанья она готовила на курорте и почему настояла, чтобы по крайней мере Ярик (в отношении внука она всегда употребляла обязывающее к ответственности слово «ребенок») питался исключительно домашней пищей.
Впрочем, на этом разговор не завершился. Внезапно, оставив свое бесконечное курортное меню, Сашка с оживленной, но вместе с тем холодно-язвительной отчетливостью, словно желая поймать меня на слове, произнесла:
– Встретимся как я хотела? Да, Колька?
– Да.
– Спасибо, что ты меня… понял и услышал.
– Это ты меня поняла и услышала.
В ответ Сашка не то фыркнула, не то всхохотнула.
– Я, извини, не дурнее тебя и с детства, лет с шести, думаю о времени …
– А я о нем никогда не думал и не думаю. Я о нем и так всё знаю, Сашка.
Но Сашка не дала себя сбить с толку:– …Это – как дверь закрылась; одна, вторая, третья, а вернуться некуда; а выйти можно только… с той стороны, где никакой двери нет. Туда ходить нельзя, но если очень хочется, то можно, – и она вновь издала тихий смешок.
Я оторопел, т. к. не мог и предположить, откуда все это взялось у Александры Федоровны, – тем паче что я никогда ни единым словом не обмолвился в наших беседах об этих, столь значимых для меня предметах. Но ведь и я безо всякого с ее стороны повода только что напомнил Сашке о ее родителях? Которых практически никогда не видывал.