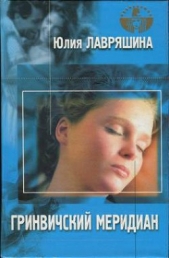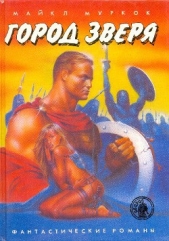Город

Город читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…несут несут несут бегом куда-то всё выше выше кругами выше гневно кричат кричат Наташа красивая медсестра потерянно горько горько плачет плачет лязг металл металл металлический светлый софит мутный свет омерзительный запах не хочу! (Четвертая операция.)
Когда я вновь увидел окно, на деревьях лежал чистый снег.
…Деревья в снегу.
Зима была длинной, снежной. Гельвеций, двухтомник которого я нашел в шкафу, содержащем библиотеку клиники, стал моим медленным собеседником в эту белую зиму.
Я прочитывал несколько строк, утомленно опускал книгу на покрывало и подолгу думал, о всяком. От белых прохладных страниц веяло чистотой, выстуженной зимой.
Зима лежала за окнами.
Снежный пустой парк. Темная синева уходила, становилось белым-бело, и мутные, синие, вечерние сумерки ложились на снег.
Все чувства мои пребывали в забытьи. Не очень понятные, нетвердо связанные, и вовсе разрозненные мысли шли медленно по вольным широким кругам. Отрешенно, холодно наблюдал я их безразличное ко мне кружение, начало бравшее из снегов.
Когда я пытался из белых высот снегов оглянуться на темную осень, то мой взгляд не встречал ничего. Там был черный и утомляющий пустотою провал. Я многое понимал. Понимал, что однажды случилось несчастье: непоправимое… нет, не со мной.
Несчастье случилось в мире. И лишь коснулось меня. И я… здесь я немного терялся, не умея найти достоверное слово… я чуть было не прекратился: и, нечаянно для меня, обрел в белых снегах моё продолжение, и начало ненужного мне будущего.
Всё это называлось: зима. Синие, заснеженные утра таинственно назначены были мне началом. Нужно было учиться заново жить: чего я не хотел.
Осень отсутствовала в моей жизни: будто кто-то, взяв ножницы, ее вырезал, как вырезывают в кино кусок пленки; и не вклеил взамен ничего: и обрывки не соединил.
И я отдыхал: безразлично удивляясь тому, что во мне нету памяти боли, что весь человеческий отдых заключен лишь в забвении. Как память о боли, иногда остается человеку боязнь, но это уже другое.
Вспоминалось мне разное. Вспоминался Юлий Сергеевич, его лицо, тонко высветленное благородной и умной старостью; разговоры о старой Руси, о расколе, глуховатый, спокойный, размеренный голос. Его голос учил меня понимать, что в рассказе о страшных, яростных временах излишества интонации бесполезны и даже вредны. Разговоры о временах, в которых, на страх и погибель многим, конечный, желанный как высшая справедливость Страшный суд, неминуемый, благостный и желанный конец света отодвигались в неясную вечность; и в образовавшейся пустоте обозначились нетвердо, в качестве вещи важнейшей: жизнь одного человека и кончина его, чаяти неизвестного часу кончины своея и ко исходу быти готову, то нам Страшный суд комуждо свой прежде общаго Суда страшного.
То нам Страшный суд комуждо свой. И мне вспомнилось, как я плакал, не имея возможности шевельнуться, в помрачающем, огненном озере боли, как я плакал; от горькой обиды, что мне не дают умереть, от бессилия и злости на себя самого, который, позабытым солнечным днем, в давней юности, мог поверить хотя бы на миг, что воля человека может зависеть от его выжившего из ума начальника. Страшный суд комуждо свой. Как постыдно ничтожен я оказался с моей детской житейской боязнью перед всё увенчавшей болью, которую понимать было выше моих малых сил. Ко исходу быти готову…
Здесь, в клинике, от нянечек, вновь я услышал историю о старухе, пришедшей в парк клиники умереть, и с завидной безжалостностью умершей на лавочке возле морга, в холодной, укрытой ледком, апрельской аллее. Умершая сидела, лицом к моргу, закрыв глаза и поджав губы, лицо ее выглядело облегченным, как говорили мне нянечки. В мертвой руке держала паспорт, и прочие документы, положенные умершему гражданину, в паспорт был вложен конвертик, где лежали сто рублей денег, и на конвертике твердой рукою: деньги для похорон. Еще говорили, что старуха была прилично одета, в лучшем, видимо, платье и в чистом белье. Я выслушивал варианты истории, прикрывая глаза: когда долго лежишь, это делать удобно. Я слушал бесстрастно, за годы я почти примирился с потерей… я знал, о ком идет речь, я не знал только места кончины моей властной, величественной Старухи. Зимний вечер. И лай собак. Значит, всё это происходило здесь.
…Моей властной, величественной Старухи. Вот в ком жило чистое бесстрашие. Юлий, Юлий Сергеевич, думал я, говорил я беззвучно, я всё еще думал с помощью слов, и мысли мои продвигались вперед медленно и нетвердо, Юлий, Юлий Сергеевич, вы помните ли разговор про очищение болью: боль как избавление, боль как искупление, боль как рождение неизвестных прежде чувств, но не странно ли знать, что мы с вами забыли про боль как постижение?
..Угль, пылающий огнём, беззвучно говорил я, глядя на утренние деревья в снегу. Грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и угль, пылающий огнём… и я замолкал, мне не хватало сил и дыхания вместить прекрасную громадность этих слов. И угль, пылающий огнём. Во грудь отверстую водвинул. Как. труп в пустыне я лежал. Угль, пылающий огнём: вечная, непреходящая мука пророка, обреченного жечь, и мучить людей пыткой истины… мы затверживали эти строки в школе, и оттарабанивали на уроке, с полнейшим бездумьем. Отверзлись вещие зеницы, медленно повторял я, ужасаясь и наслаждаясь жуткой истиной слов того, кто один раз уже умер. Моих ушей коснулся он. И их наполнил шум и звон. И внял я неба содроганье… Внял я неба содроганье, лишь над этим раздумывать можно было бесконечно долго, и всё более грозное и тревожное величие вставало за короткою, очень простою строчкой. И внял я неба содроганье… и горько делалось мне, по той причине, что никогда не будет дано мне внять неба содроганье.
…И горний ангелов полет, и гад морских подводный ход. И дольней лозы прозябанье.
Грешный мой язык… да, да, думал, с смутным и непонятным волнением я, грешный мой язык: и празднословный и лукавый.
И жало мудрыя змеи. Юлий, Юлий Сергеевич, отчего же вы… И жало мудрыя змеи: в уста замершие мои, беззвучно повторял я, глядя на уже синеющие в вечере зимнем деревья в снегу, повторяя, леденея, в уста замершие мои: вложил десницею кровавой… я, кажется, начинаю уже понимать, я догадываюсь, отчего вы не упомянули Пророка, вы приберегали его для дальнейших вечеров и ночей, и вот моё время прикоснуться к Пророку: пришло… и все мы витали Ветхий Завет, но у Пушкина ведь совсем про другое, и что же в действительности случилось с пророком, отчего умер он, и кто его врачевал… и что-то, что-то мне вспоминалось, чьи-то чужие слова, если только возгоримся истребляющим огнем любви к Творцу, то вспыхнем внезапно в образе Серафима, Джовании Пико делла Мирандола, Флоренция, пятнадцатый век. Платоновская Академия, я всё еще думал при помощи слов, и медленно и неудобно, но впервые я чувствовал, что слово длиться может бесконечно: и бесконечно можно словом думать и жить — как словом небо, как словом внять, как словом я. И внял я неба содроганье…
Флоренция. Академия. Грешный мой язык… у Джованни мне виделось главным не огонь, а истребляющим. И вспыхнем. Серафим…
И грешный мой язык: и празднословный, и лукавый. Грешный мой язык. Юлий, Юлий Сергеевич… а молодой человек, истребляющим огнём сгорающий: в глуши псковской деревни, он-то откуда всё знал? Неужели гений, действительно: знание вне всякого опыта? Вложил десницею кровавой. Десницею кровавой… такое придумать нельзя: это правда.
И сердце трепетное вынул. И угль, пылающий огнём. Во грудь отверстую… Как трепет сменяется здесь: пылающим. Трепет: пугливость, и жизнь. Что же чувствовалось грудью отверстой в ту вечность, когда уже не было в ней пугливости жизни, и еще не помещен в ней был угль, пылающий огнём. Как труп, в пустыне я лежал. В уста замершие мои. В полдневный жар в долине Дагестана. Юлий, Юлий Сергеевич, и я задумывался, живя словом Сергеевич: имя, жизнь человека, неизвестного мне, Юлий не говорил об отце своем, и я даже не знал его отчества, то есть имени деда моего, любимого, Юлия: тоже жизнь… уже канувшая в беззвучную Лету. Умирая от жажды, я выпил… Юлий, мы еще договорим, коли я принужден еще длиться: в загадочном времени… выпил чашу с водою из Леты, как различно берут свою меру поэты. Где для одного всей жизни важнее:…И Бога глас ко мне воззвал: Восстань!.. и жги сердца людей, так другому почему-то важнее, что изрекут или подумают о нем люди. Глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите; как он наг и беден. Как презирают все его!.. Вот где ужас-то, как сказала бы наша Насмешница. Говоря, беззвучно, Насмешница, не умел вымолвить, даже беззвучно, ее легкое имя. И не испытывал ничего, кроме мертвой усталости, и вы помните, Юлий, как расширялись, темнея, чудесные ее глаза, когда она изумлялась строчке гения. Господи: как наволхвовала она свою кончину. Наволхвовала, в маленькой и чудесной, дивной изяществом рукописи: которая явилась чашею смерти. Вот где ужас-то. Ведь если всерьёз, то нельзя написать ни строчки: жутко. Ведь если для одного как труп в пустыне я лежал было началом, то для другого лежал один я на песке долины, и жгло меня — но спал я мертвым сном стало провиденным концом, ведь один. пишет Я памятник себе, а другой Нам лечь, где лечь, и там не встать, где лечь, и то и другое: истина. И потому лишь: сбылось. И может быть, Юлий, нужно писать лишь про то, что уже достоверно случилось, и даже единым глазком не засматривать в будущее? и жить умно, из боязни, и Трепетности… но ведь лживо; и скучно-то как!