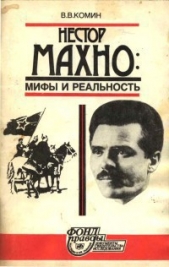Ворон белый. История живых существ
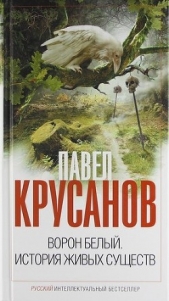
Ворон белый. История живых существ читать книгу онлайн
Новый роман одного из ведущих мастеров современной интеллектуальной прозы.
Он может быть прочитан как аллегория, сродни величественным образам Апокалипсиса.
Другие прочтут роман как злободневную героическую хронику, историю смертельного поединка человека и бесчеловечного Зверя, пришедшего в современный мир, чтобы погубить жизнь.
Третьи увидят в книге картину альтернативного сегодня, где Главный дух и его помощники, вещающие из волшебного ящика, ведут Русскую кочевую империю к новым победам.
Словом, каждый найдет в романе то, что пожелает найти. И это признак настоящей литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мать–Ольха всегда была широка душой, крута нравом и богата телом, а вот говорить с деревьями научилась уже на моей памяти. Поначалу, гуляя в садах и скверах, она останавливалась и слушала листву, ее легкий трепет или волной нарастающий на ветру шум. Зимой прикладывала ухо к коре и, стянув перчатку, стучала по звонкому стволу рукой, трогала мерзлые ветки, отзывающиеся шелестящим бряцанием. А однажды весной, в апреле, когда после оттепели вдруг снова ударил запоздалый мороз, она позвала меня в Комарово и показала березу, у которой из зарубки пошел сок, но загустел на холоде и замер чередой наплывов, как какой–нибудь каменный пещерный водопад, только здесь было чуднее – прозрачный, застывший, ледяной водопад березового сока. «Смотри, это музыка, – сказала Мать–Ольха. – Слышишь?» И я увидел эту стылую, покатую, вспыхивающую хрустально–матовыми бликами лесную музыку. Я ее увидел, а Мать–Ольха, похоже, ее и впрямь слышала. Мы отломили по сосульке и сунули в рот березовые леденцы. Я запомнил тот день, полный весенних лесных запахов и застывшей музыки со студеным детским вкусом.
Потом Мать–Ольха устроила у себя дома настоящий дендрариум: на подоконниках в горшках ловили заоконный свет миниатюрные баобабы, денежные деревья, бегонии и прочая мелкая экзотика, а по углам и вдоль стен стояли кадки с гигантами (в масштабе городского жилища) под потолок. Что–то у нее там то и дело вегетативно размножалось, то и дело прорастали какие–то семена – словом, был при дендрариуме и свой детский сад. О чем вещали ей деревья, что рассказывала им Мать–Ольха? Не знаю. Однако любовь их определенно была взаимной: однажды у нее в гостях я увидел, как некое древо – с виду фикус, но я не знаток, – отчетливо сложив тугие ласты, поймало случайно оброненную Матерью–Ольхой фарфоровую чашку кузнецовского завода. Поймало и не отпустило: до пола чашка не долетела – так и осталась качаться, зажатая в мясистых, окропленных чаем зеленых лапах.
Как описать Мать–Ольху, чтобы далекий брат ее увидел? Соломенные волосы, заплетенные в тяжелую косу, широкое мягкое лицо, сияющий взгляд серо–зеленых глаз, могучее тело в просторных одеждах. Ее можно было уподобить небольшой буре – мир, в который она входила, начинал колыхаться. Буря эта бывала веселой и озорной, а могла обернуться злой, секущей и разрушительной – тогда в вихрях ее натягивались и крепли струны, о которые можно было порезаться.
Испытывая к деревьям воистину материнские чувства, с людьми Мать–Ольха находилась в более требовательных отношениях. Она жаждала владеть их вниманием, и, не получив удовлетворения, жажда ее смирялась трудно, иной раз покоряясь обстоятельствам, иной – порождая месть. Безусловно, Мать–Ольха могла увлечь слушателей яркой речью, полной живописных наблюдений и непредсказуемых заключений, но взамен обязательно ждала отклик в виде удивления и восторга. Она была трудолюбива, но плод ее трудов, будь то выволочка городским духам за нарушение небесной линии (она писала огнедышащие статьи в новостные бюллетени), вязаный шарф, найденный гриб или ощипанный гусь, нуждался в похвале, иначе Мать–Ольха терзалась и обрекала равнодушную мужскую вселенную на попрание. В кругу, где она открывала душу (всегда доверчиво, во всю ширь – иначе не умела), а ей в ответ не воздавали должного, она скучала и долго там не задерживалась – проявлять в отношении Матери–Ольхи безразличие, не замечать ее, а тем более подвергать критике в ее личном уложении о наказаниях считалось величайшим преступлением, заслуживающим высшей меры презрения.
Мы старались не обделять Мать–Ольху добрым словом, однако, случалось, отвлекались на посторонние предметы. Что делать – она терпела наше несовершенство (несмотря на все ее буферные пузыри, мы – стая, и Мать–Ольха, случись нужда, постояла бы за каждого из нас, как за родимое чадо), и с ее стороны это было воистину великодушно. Она не испепеляла нас высокомерием, она милостиво оставляла нас в живых, но все, что уводило наше внимание в сторону от Матери–Ольхи, которой это внимание должно было принадлежать безраздельно, ей решительно не нравилось. В результате причины отвлечений, будь это люди, духи, небесные явления или природные ландшафты, подвергались с ее стороны желчному разносу как вещи воистину ничтожные. Похоже, похвала и восторженное внимание были необходимы ей в жизни, как соль в пище, они делали для Матери–Ольхи жизнь лакомой и участвовали в ее обменных процессах. Ну а если кто–то осмеливался дерзить, бросать упреки, искать недостатки… Я говорил уже, эти были для нее сущим ядом и вызывали в ее организме несварение. Таких Мать–Ольха, натягивая в голосе убийственные струны, рубила в окрошку без всякого снисхождения.
Вообще, чувствам ее был неведом мягкий режим, они с ходу включались на всю катушку. Иногда выходило так, что действительность замыкала сразу несколько контактов, и у Матери–Ольхи одновременно подавалось питание на плохо, казалось бы, совместимые переживания. В результате, случалось, складывались забавные конфигурации – например, Мать–Ольха беззаветно любила родину, ненавидя в ней практически все. Можно привести немало примеров… Нет, пожалуй, не стоит. Только деревья родины могли рассчитывать на ее неизменное покровительство.
Следует заметить, что Рыбак испытывал определенные подозрения по отношению к Матери–Ольхе, поскольку не имел возможности изведать крепость ее духа в опаляющей мистерии, а кроме того был твердо уверен: бабьи умы разоряют домы. (Этот постулат он временно запирал в скобки забвения, когда в полковники себе назначал какую–нибудь девицу.) Помимо этого, из–за любви Матери–Ольхи к деревьям, Рыбак то и дело тяготился сомнением: а не тайный ли она зеленец? Мать–Ольха чувствовала в Рыбаке брожение какой–то нехорошей мысли и отвечала ему ленивым небрежением. Если говорить прямо, кроме стайного чувства примиряла ее с Рыбаком лишь надпись на его футболке.
Про себя скажу одно: я – Гусляр, мое дело – трень–брень. Петь былины.
Сложи нас воедино, мы со своими достоинствами, гасящими отдельные ничтожные недостатки, были бы, пожалуй, совершенным организмом. Этакой устойчивой, неодолимой химерой… Как семь пальцев на одной руке – попробуй представь такое безобразие. Особенно сжатым в кулак. Впрочем, и сам по себе каждый из нас, безусловно, мог рассчитывать на восхищение.
И вот еще – чуть не забыл – тотемом нашей стаи был белый ворон.
Без свидетеля
Ночью выпал снег. Сырой, обильный, он сыпался с невидимых небес, будто застланных махровым белым полотенцем, огромными хлопьями, освежая старые белила, покрывая черные талинки, налипая на стволы и ветки деревьев, превращая расстеленные по опушкам кусты в сугробы – белые шары, барашки и гребни на белой земле. Утром снежная туча ушла, и в высях открылась мерклая пелена, за которой лишь угадывалась прозрачная синь, все еще надменная и стылая, но уже не мертвящая, не зимняя, уже пульсирующая живыми токами, играющая глубиной, – весна сперва овладевает небом и лишь потом всем остальным. Могучие лиственницы, пихты и ели стояли в снежных балахонах, под белым гнетом их лапы клонились к земле. Налети ветер, он сбросил бы снег вниз, но сейчас ветер был далеко – он выл на западе, выл на севере, выл на восходе, он спешил, но еще не добрался до этих окутанных тишиной скал и поросших лесом склонов. Все вокруг оцепенело, замерло. Случается на свете такой час, и, очутившись в нем, не ошибешься – так выглядит покой. Белый, заснеженный, неподвижный мир с бледными тенями – где отыскать картину более полного покоя? Только там, где нет и тени.
Зверь вышел из утробы горы именно в этот час. В час, когда мир обманывал взгляд, обернувшись чистым, пустынным, раз и навсегда застывшим, не ведающим ни цветения, ни ярости, ни тлена. Зверь не знал, не помнил, как было раньше и что было с ним раньше; так очнувшийся от зимней спячки еж не помнит, где ставил для него блюдце с молоком человек, под чьим домом он устроил свое гнездо. Да и было ли оно, это блюдце? Зверя разбудил голод. Но он не сознавал, что это голод, и не понимал, как его утолить, – на выходе из горы стояли стражи, отбирающие память. Их Зверь тоже не помнил. Покидающим недра всему приходилось учиться заново.