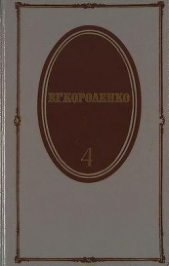По следам судьбы моего поколения
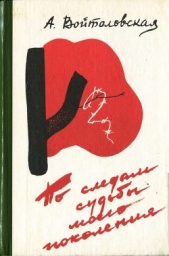
По следам судьбы моего поколения читать книгу онлайн
А. Л. Войтоловская — одна из жителей печально известного архипелага ГУЛАГ, который густо раскинул свои колючие сети на территории нашей республики. Нелегкие пути-дороги привели ее, аспирантку ЛИФЛИ, в середине 1930-х годов, на жуткие командировки Сивая Маска и Кочмес. Не одну ее — тысячи, сотни тысяч со всех концов страны.
Через много лет после освобождения Войтоловская вновь мысленно проходит по следам судьбы своего поколения, начав во времена хрущевской оттепели писать воспоминания. Литературные критики ставят ее публицистику в один ряд с книгами Шаламова и Гинзбург, но и выделяют широкий научный взгляд на сталинский «эксперимент» борьбы с собственным народом.
Книга рассчитана на массового читателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, я исключена из аспирантуры. Многие в те годы учились и работали. Я вела в ЛВШПД несколько курсов: Историю развития общественных форм, позднее Историю Запада, Историю Коминтерна и Историю Профинтерна. Ныне это специализированный вуз, тогда же нечто между Рабфаком и Комвузом. Работалось там исключительно хорошо. Преподаватели — в основном начинающие научные работники и пропагандисты. Занимались студенты с неослабным интересом и упорством. История подтверждается их живым опытом, почерпнутым на заводах, в цехах. Учебников почти не было. Преподаватели готовились по архивным материалам, журналам, газетам, информационным бюллетеням Коминтерна и Профинтерна и, когда удавалось достать, по иностранной печати. Просиживая долгие вечера в библиотеке дискуссионного клуба на Мойке, 59 и в Публичке. Необходимо было знать и практику профработы, чтобы не попасть впросак — студенты буквально закидывали самыми неожиданными вопросами, их ведь тоже ждали с ответами. Не однажды часов занятий по расписанию не хватало, возражения и обсуждения продолжались в перерывах, на улицах, случалось, что и дома, и в дискуссионном клубе.
По окончании студенты в большинстве направлялись на руководящую работу, некоторые в аспирантуру и в Институт красной профессуры. Состав слушателей неровный: вполне зрелые и подготовленные люди и такие, которые свободно ориентировались на производстве, но были беспомощны в элементарных знаниях.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что большая половина преподавателей скошена террористической косой. С некоторыми студентами позднее тоже встречались на этапах и в лагере. В неприглядной барачной неразберихе оказалась как-то рядом на нарах со студенткой ЛВШПД первых выпусков Марией Николаевной Лукьяновой, наделенной практической сметкой, тонкой иронией, неунывающим характером и особой памятью на частушки. Она знала их бесчисленное множество, а может, кой-какие и сама сочиняла. Подтрунивая над собой, она рассказала, как экзаменовалась в Институт красной профессуры: «Признали меня талантом, любили тогда таланты из народа. Поезжай, говорят, Маша, учись, будь профессором! Отмахиваюсь руками и ногами. На «собачьей радости» выкормлена, с десяти лет на табачной фабрике, какой я профессор? — один смех. Лучше я вам покажу, как я папиросы фасую, тут уж я не подкачаю. И слушать не желают: «Где ты, Мария, тред-юнионистского неверия в рабочий класс набралась?» Уговорили, еду, но досадую. Приехала. Все как один культурные, одна я — марксистский ноль без палочки. Первый экзамен философия. Вопрос: «Что такое субъект?» (или что-то в этом роде).
— Не торопитесь, подумайте…
— А что думать? Субъект — подозрительная личность, — отвечаю.
Экзаменующий не улыбается, серьезно смотрит, смутился.
— Что вы понимаете под объектом?
— Мой объект оказался «субъектом», вот и рощу девочку одна, без отца.
— Кем работаете?
— Председатель ленинградского Союза табачников.
Посмеялись мы с ним по-хорошему.
— Так не хотите на другое поприще?
— Нет, не хочу, с этим решением и ехала.
На этом моя профессура закончилась».
Как только сняли карантин, я пошла в ЛВШПД за расписанием. В раздевалке ни обычного оживления, ни приветственных возгласов. Молча жмут руку и отходят. Холодок настороженности и во мне, и в товарищах. Иду к директору Звере. Ее уже нет, снята. Секретарь направляет к заведующему учебной частью И. Шерешевскому. Он быстро поднимается мне навстречу, тепло пожимает руку и, не мучая неизвестностью и неопределенностью, говорит: «У нас есть предписание отстранить вас от работы, на время… пока муж сидит». Потом притупляются чувства, но первые удары разят ножом по сердцу, оскорбительны. Ты для всех ничто. Горчайшее ощущение несправедливости и непоправимости. «Поймите, — говорит Шерешевский, вполне дружески, — тяжело и мне…, но что делать?» Ему тоже, наверное, тяжело, но не так, как мне. Выдали справку. Вот она:
Справка
«Дана Войтоловской А. Л. в том, что она работала в ЛВШПД с 01.09.1930 г. по 12.02.1935 г. в качестве преподавателя Всеобщей Истории. За время работы в школе замечаний со стороны Дирекции и Кафедры по содержанию преподавания т. Войтоловской не было. Со стороны слушателей пользовалась авторитетом».
Подписи.
Привожу ее лишь для того, чтобы показать, что в самой справке заключался некий протест. Бессмыслица увольнения бросалась в глаза. Без притворства и без ярлыков, типичных для дальнейшего. Приказано — против воли снимаем. Приказ и сочувствие приказу не равнозначны, приказ вызывает сомнения, непонимание.
Это надо пресечь, искоренить, добиться судорог, паралича, убийства общественной инициативы, полного механического подчинения приказам сверху. Смертельные яды доза за дозой вводятся в общественный организм. Не просто поверить в невероятное, убедить в продажности неподкупных, в отступничестве учителей, в достоверности фальшивок, в справедливости лжи, заставить уверовать в то, что аресты, насилия, кровь, смерть совершаются во спасение. Для этого нужны годы и чрезвычайные меры. И они пущены в ход по всем каналам. Наступление на общественное сознание продолжается, наращивая темпы, изобретая все новые средства, подавляя страхом, сея панику.
Распрощалась с ЛВШПД и с Шерешевским навсегда. Мои изгнания только начинались. Он же убит на фронте.
Здесь, в ЛВШПД, проработала несколько лет со всем энтузиазмом молодости, любви к делу и подъемом, который создает товарищеский творческий коллектив. На что надеяться в другом месте будучи уволенной с работы, исключенной из аспирантуры, с мужем — в тюрьме и двумя малышками? Заработка нет. Жить не на что. Обратилась за содействием в профсоюз высшей школы. Через несколько дней меня вызвали для разбора вопроса об исключении из аспирантуры. От ЛИФЛИ явились представители от администрации и профкома. Их выступления выражали полную растерянность. Указаний шельмовать, видимо, пока не имелось. И тот, и другой выступали с похвалами в мой адрес: «училась хорошо, получала стипендию, вела большую общественную работу». Однако никто не задал вопроса о том, почему же исключена, это понималось само собой. Решение вынесли поистине соломоново: «Исключение утвердить, приложить все усилия для устройства на работу». На лестнице догнал председатель профсоюза высшей школы Касаткин, который вел собрание. Ранее мы не были знакомы. Он был очень взволнован и с горячностью и искренностью заверял меня, что он приложит все силы и из-под земли достанет работу, не успокоится, пока не удостоверится, что я при деле. Чуткий и проникнутый сознанием ответственности за происходящее, Касаткин уже был посажен, когда я пришла к нему через неделю за ответом. Работы не было, а жить с детьми надо было.
В первой половине февраля получила разрешение на свидание с Колей. Свидание происходило в обстановке, ничем не отличающейся от свиданий в царских тюрьмах, хорошо известных по описаниям, особенно Л. Н. Толстого. В наших условиях оно казалось возмутительным. Я еще не знала, что ожесточенный XX век несет и неслыханно жестокие условия совершенно независимо от формаций. «Шпалерка» — внутренняя тюрьма на улице Воинова. Полутемный, мрачный и грязный коридор. Сетки-решетки с двух сторон. Посредине надзиратели. Сначала впустили плотный ряд посетителей, затем привели заключенных, бледных и обросших. Конвоиры стали по обе стороны прохода. Поднялся невообразимый шум, крик, подобный лаю. Каждый невольно старается перекричать других. Под конец десятиминутного свидания все сливается в сплошной гул. Голова гудит, чувства притупляются, вернее — вовсе исчезают. В этих сумасшедших свиданиях есть, однако, одна положительная сторона: конвоиры следят лишь за тем, чтобы ничего не перебрасывали через решетки, слова до них не долетают, и можно передать на словах самое важное. Узнала, что Коля сидит в одиночке, без книг и газет. Обвиняется в подпольной оппозиционной деятельности, поскольку в прошлом принадлежал к оппозиции. Ни одно из предъявленных ему обвинений не подписал и сформулировал ответ так: «Все обвинения считаю клеветническими и с презрением их от себя отметаю». Следствие закончено. Ждет приговора. Следователь у него Райхман. Я не сказала Коле, что отовсюду снята. Помочь он не мог, а муки прибавилось бы. Говорила, что дети здоровы, что аресты продолжаются и ширятся. Что-то сковало меня изнутри и это было страшно тягостно. Я не хотела его расстраивать, и это мешало донести до него настоящее тепло. Страшилась всего личного, горчайшего. Коля был спокойнее и увереннее меня. Свидание единственное и последнее на годы…