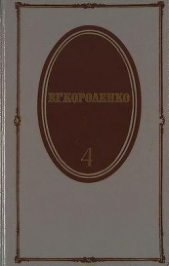По следам судьбы моего поколения
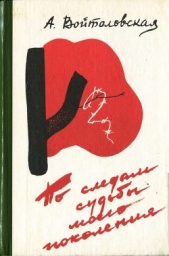
По следам судьбы моего поколения читать книгу онлайн
А. Л. Войтоловская — одна из жителей печально известного архипелага ГУЛАГ, который густо раскинул свои колючие сети на территории нашей республики. Нелегкие пути-дороги привели ее, аспирантку ЛИФЛИ, в середине 1930-х годов, на жуткие командировки Сивая Маска и Кочмес. Не одну ее — тысячи, сотни тысяч со всех концов страны.
Через много лет после освобождения Войтоловская вновь мысленно проходит по следам судьбы своего поколения, начав во времена хрущевской оттепели писать воспоминания. Литературные критики ставят ее публицистику в один ряд с книгами Шаламова и Гинзбург, но и выделяют широкий научный взгляд на сталинский «эксперимент» борьбы с собственным народом.
Книга рассчитана на массового читателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наш дом был средоточием интеллигенции разночинной, подготовлявшей революцию и ожидавшей ее: писатели, журналисты, литераторы, художники, музыканты. Среди них были и подпольщики и легальные социал-демократы.
Отец вел литературный отдел в газете «Киевская мысль», одной из самых либеральных газет при царизме, в которой печатались Луначарский, Свидерский, Троцкий, Короленко, а наряду с ними и социал-демократами меньшевики Гинзбург-Наумов, Балабанов, Лиров, Заславский и др. Редактировал газету прирожденный редактор Иона Рафаилович Кугель, умерший в Ленинграде в блокаду за редакторским столом. Нам, детям, он представлялся бородатым Дедом-Морозом. У них с Екатериной Тихоновной, как и у нас, тоже было четверо детей, и когда мы к ним приходили, Иона Рафаилович затевал с нами развеселую кутерьму.
Издателем газеты был умный прижимистый либерал, поляк Рудольф Лубковский, который хорошо улавливал дух времени, допускал в газете много вольностей и поставил газету на широкую ногу. Сын его Мечислав Лубковский, как мне помнится, был большим меценатом, женат на прекрасной и очаровательной певице Воронец-Монтвид и потому тесно связан с театрами, с искусством.
Отец наш Лев Наумович Войтоловский критик-публицист, врач и писатель, был человеком высокой одаренности, вернее таланта и эмоционального накала, широко образованный и чрезвычайно трудоспособный. Много ездил по свету, много видел, жадно впитывал в себя окружающее, щедро и плодотворно отдавал свои знания. С ним всем было интересно, и жизнь расцвечивалась в его присутствии. Ум острый и яркий, как и перо. Возможно, ему в некоторые моменты нехватало академической точности и скрупулезности, попросту не было на нее времени.
Папа был великолепный собеседник и рассказчик, но умел и слушать. Когда он бывал в ударе, эпиграммы и стихотворные каламбуры легко и метко слетали с его губ. Как врач он был на фронте на всех войнах своего времени: русско-японской, первой империалистической и гражданской. Во время империалистической войны — пораженец. Во время революции — председатель армейских Советов (тринадцатая армия) и делегат от фронта на Втором съезде Советов. Но революционный террор его, порой, смущал и создавал поводы для колебаний. Только гражданская война помогла ему безоговорочно стать на сторону большевиков и пойти в Красную Армию.
Круг его интересов и занятий был чрезвычайно широк: медицина, социальная психология, философия, литература, искусство. Читал и писал он постоянно — сидя, стоя, лежа, во всякой обстановке, о чем свидетельствуют хотя бы его фронтовые записки, превратившиеся в большую уже упомянутую книгу «По следам войны» и путевые очерки — плод путешествий и разъездов. Записи велись в походной обстановке, на бивуаках, между боями, в госпитальных палатках, где попало. Так как у нас на квартире бывали обыски, мама весьма остроумно сохранила записные книжечки отца в сейфе банка. Ценностей у нас, само собой разумеется, никаких не имелось — семья жила на литературные гонорары и на мамины — за уроки по роялю, а в сейфе лежали фронтовые записи папы. Отец был человеком чутким и душевным, он помогал десяткам, сотням людей советом, литературной редактурой, чем мог. Люди всех профессий, а больше всего, конечно, писатели, поэты, литераторы, переводчики стекались к нему со всех сторон. Потоками шли к нему и рукописи. Работа в газете носила потогонный характер — литературные обзоры и критические подвалы два раза в месяц писались круглосуточно. Каждые два часа, в иные дни, прибегали из редакции мальчишки за рукописями отца и с гранками для правки. И все-таки постоянно кто-нибудь дожидался отца — рабочий, студент, поэт…
Дома он нередко бывал сосредоточен и даже несколько суров с нами, детьми. Дружба наша с отцом пришла только, когда мы подросли. Всегда погруженный в творческую работу отец как бы передоверил наше воспитание матери. Между ними был глубочайший контакт и согласованность, наверно, они о многом думали вместе, но мы этого тогда не замечали. Центром жизни в семье для нас была мама. В гостиной неизменно звучал рояль — мама давала уроки музыки. О нас говорили, что у Войтоловских плачут и смеются, рожают и пишут под музыку. Мама была очень хороша собой, обаятельна, энергична, инициативна, прекрасно и свободно играла и любила музицировать на людях, но главное, что в ней привлекало, — это любовь к жизни и уменье объединить людей, зажечь их, вдохнуть душу живу. Так было и среди взрослых, и среди детей, а позднее и среди молодежи, которая больше всего любила собираться у нас дома.
Когда мы были еще детьми, в нашем доме собирались друзья родителей. Запомнились резкие острые политические споры и взволнованные беседы на общественно-литературные темы, в существо которых мне еще трудно было вникнуть, так обрывочки, островки: забастовки вообще и в типографиях, горячие разговоры вокруг Думы, споры о декадентах, смерть Л. Н. Толстого и демонстрации молодежи в крупных городах. Смерть Толстого явилась первым общественным событием, которое меня потрясло; впервые в кино видела похороны Толстого и горько плакала вместе с мамой и другими, мне было уже около восьми лет. Ранее или в то же время помню встревоженные слова папы о самоубийствах среди молодежи. Он много и обличительно писал по этому поводу. Многие стихи Блока, Белого, Брюсова, Саши Черного, Оренбурга, Волошина, Бодлера, Рильке и других впервые не прочла, а услышала из уст тех, кто у нас бывал дома. Позднее, когда их читала, отдаленно уже знала. Одновременно едкие стихи-пародии на модернистов, некоторые на глазах писались и даже инсценировались.
Несколько раз бывали обыски. Один из них произошел на даче и почему-то ассоциируется у меня с пожаром — то ли при обыске что-то подожгли, то ли просто очень перепугалась. В то время мне было шесть лет. Я спала. Разбудили гиканье и крики. Нас подняли с постелей, одели и согнали в кучу. Дачу со свистом окружили полицейские и казаки. Они перерыли весь дом и сад, но тот, кого они искали, успел бежать. Кто у нас скрывался, не помню. Писатели и литераторы, жившие в Киеве, бывали у нас постоянно. Кроме того, мама принимала активное участие в создании так называемой «школы матерей», построенной на общественных началах и на самых передовых педагогических принципах. Эта начальная школа получила реальное воплощение, и все ее создательницы бывали у нас: мама отдавалась этому делу со всей душой, как и другие. Помню их по сей день: Беклемишева, Ваккар, Кранц, Эйшискина, Кистяковская, Янушевская, Дижур, Френкель, Бриллиант, Давидсон, Свен-сен, Брюно и др. Все матери сами преподавали и оборудовали школу. Большинство детей, обучавшихся в ней, стали друзьями нашей юности.
Бывали у нас и приезжие общественные деятели, писатели, художники, музыканты. Луначарский был другом отца. Несколько дней гостил шлиссельбуржец Николай Морозов. Мы, дети и уже молодежь, благоговейно ходили перед ним на цыпочках, а он был весьма прост, рассеян и растроган. За тесным столом вел долгие беседы о пережитом и о больших планах работ, как будто жизнь была ему отпущена по меньшей мере на век.
Большим другом нашей семьи был остроумнейший и внешне тяжеловесный Демьян Бедный. Он беспощадно поддевал метким словцом всю молодежь, толпившуюся постоянно у нас, но мы его любили. Иногда он читал отцу и матери свои лирические стихи, так и не опубликованные до сего времени, хотя, помнится, папа говорил, что стихи его — подлинная поэзия. Я их не помню. Часто бывал Корней Чуковский, хотя он об этом по каким-то соображениям нигде не упоминает. Быть может, потому что папа его резко критиковал в годы реакции, а быть может, и по иным соображениям. Кто его знает…
Художник Штернберг писал портрет мамы и засиживался целыми вечерами. Подолгу гостил Станислав Вольский. Впервые от него слышала рассказы об Индии, йогах, теософических кругах и в то же время — пламенное увлечение Оливером Кромвелем и Мильтоном. От его рассказов кружилась голова… Останавливался во время концертных поездок крупнейший пианист, племянник матери Александр Боровский. Огромным наслаждением было слушать его с утра до вечера. Приезжала мамина двоюродная сестра, пианистка и профессор Петербургской консерватории Изабелла Венгерова, но, к сожалению, играла дома неохотно. Зато когда гостила певица Бутомо-Названова вместе с мужем, удивительно схожим с Герценом, пел весь дом. Певица проникновенно исполняла романсы Глинки и других русских композиторов под аккомпанемент мамы или даже мой, знала много народных песен и требовала, чтобы мы ей подпевали.