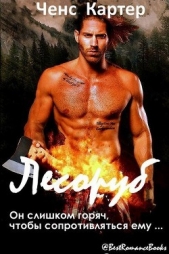Пепельный понедельник

Пепельный понедельник читать книгу онлайн
В рассказе «Пепельный понедельник» американца Томаса Корагессана Бойла (1948) в роли чужака — иммигрант японец, обосновавшийся в Калифорнии. Конфликт с соседским мальчишкой и последовавший на другой день несчастный случай может быть истолкован и как символ агрессивного взаимонепонимания разных цивилизаций. Перевод Андрея Светлова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дилл с минуту переваривал информацию: гость к ужину, учитель, вегетарианец.
— И что же он ест? Шпинат? Брюссельскую капусту? Буррито с бобами?
Мать хлопотала у плиты. Ее полупустой бокал стоял между сотейником с зеленым горошком и кастрюлей, где варилась картошка для ее фирменного картофельного салата. Прямо по курсу был виден смазанный отпечаток губной помады на ближней стороне бокала, сквозь него проглядывали испорченные электронные часы и отсвечивающее оконце в хромированной рамке в дверце духовки, которая уже давно не работала, потому что от газового крана отвалилась ручка, и его уже было не открыть, даже плоскогубцами.
— Рыбу, — сказала мать, покосившись через плечо. — Он ест рыбу.
В тот день мать приехала домой сразу после работы, приняла душ, переоделась и пропылесосила ковер в салоне. Потом накрыла на стол и в центре поставила пустую вазу: «Он принесет цветы, вот увидишь. Он такой… очень внимательный», — после чего стала крошить зелень для салата и мыть картошку.
Дилл боялся, что она добавит: «Он тебе обязательно понравится», — но она этого не сказала, и он тоже ничего не сказал, хотя после её пояснения насчет рыбы успел придумать, как, придав голосу едкий оттенок сарказма, спросит: «A-а, значит, это свидание?»
Хлопнувшая за ним дверь оборвала ее тираду: «Смотри, не сожги рыбу. И не пережарь…» Он вышел во двор с полным блюдом продуктов, спичками и пластиковой бутылкой в руках. Это была брызгалка с зажигательной жидкостью, утром каким-то чудодейственным образом появившаяся у них на пороге.
Ветер, который было стих, снова поднялся — гонял мусор, перекатывал листья через подъездную дорожку и, взметая вверх, засыпал ими его говенную «тойоту», смешивая со вчерашними, и листьями с прошлой недели, и с позапрошлой. Дилл остановился на полпути к грилю и постоял, чувствуя ветер, вдыхая его запах, глядя, как солнце своими лучами пробивает дымку слой за слоем и как большой голый утес на верху каньона то расплывается, то снова из нее вылезает. Потом подошел к жаровне, поставил рядом блюдо с курятиной, сосисками и розовым жирным куском рыбы и поднял тяжелую железную крышку, немного надеясь, что там снова окажется крыса. Пли змея. Змея даже лучше. Но, конечно, внутри никого не было. Это ведь не какая-нибудь крысиная ночлежка, а просто гриль. И внутри был только пепел — пепел и больше ничего.
Ветер перекинулся через гараж, и пепел ожил, вихрясь, вырвался наружу, прямо как песок в фильме «Мумия возвращается». Это было прикольно, и он не стал вмешиваться: пускай гриль себя очищает. И пока суд да дело, пока мясо лежало на своем блюде, а пластиковая емкость сжималась и разжималась у него в руке, холодя ладонь, сам он был в школе, прошлой зимой, и у Билли Боттомса, который никого не боялся, никогда не проявлял слабость, и вообще у него не было никаких недостатков, ни единого прыщика, ничего, — так вот, у Билли на лбу, прямо посередине, красовалось черное пятно, словно след от большого пальца. Странное дело: как будто Билли за ночь обратился в индуса, — и Дилл не мог удержаться от желания его подразнить. Нет, обзывать его он не стал. Подошел сзади, обхватил одной рукой за шею и, прежде чем Билли успел понять, что происходит, прижал большой палец к отпечатку и отпустил — палец остался черным. Кулак Билли заехал ему в висок, он ответил тем же, и их обоих оставили после уроков, и маме, когда истек срок наказания, пришлось его забирать, потому что последний автобус уже ушел, и это была еще одна беда на твою голову — часть наказания: чтобы за тобой приехала мать. Или отец.
Ее лицо точно застыло. Она не стала ничего спрашивать, во всяком случае поначалу. Она старалась быть великодушной, старалась завести пустяшный разговор, чтобы не набрасываться на него сразу, чтобы оба успели успокоиться, так что, когда они сели в машину, он просто сказал:
— У него было черное пятно на лбу. От пепла. Как у индусов, как в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы». Я просто хотел посмотреть, что это, вот и все.
— Только и всего? В моем классе у многих детей такие знаки. Понимаешь, есть особый день, Пепельная среда. — Она мельком глянула на него. — Они католики. У них такой обычай.
— Но мы — не католики, — сказал он. На стоянке оставалось всего семь машин. Он сосчитал.
— Нет, — она помотала головой, но лицо у нее оставалось застывшим.
— Получается, мы вообще никто?
Она сосредоточенно крутила руль, осторожно выводя со стоянки свою машину, свой «ниссан-сентра», который был немногим лучше его говенной «тойоты». Радио тихонько мурлыкало, слабый голосок напевал одну из тех незамысловатых песенок, которые она всегда слушала. Она опять помотала головой. Шумно вздохнула. Пожала плечами.
— Даже не знаю. Я, например, верю в Бога, если ты об этом. — Он ничего не сказал. — Твои бабушка с дедушкой — мои родители, я имею в виду, — были пресвитериане, но в церковь мы ходили редко. На Рождество, на Пасху. Наверное, просто потому, что так принято.
— И кем тогда нужно считать меня?
Она опять пожала плечами.
— Ты можешь быть, кем захочешь. А к чему все эти вопросы? Ты что, интересуешься религией?
— Не знаю.
— Что ж, тогда ты протестант. Вот и все. Просто протестант.
Он подложил в гриль еще брикетов, ветер сдувал черный прах — а вовсе не пепел — с маленьких сильно обгорелых камешков, совсем даже не похожих на древесный уголь. Потом он стал обрызгивать их прозрачной, с сухим запахом, жидкостью, не имевшей ничего общего с бензином с его сочным, густым, сладковатым ароматом, стараясь, чтобы они хорошенько пропитались, и думая о том, что у него все дни получаются пепельные: пепельный понедельник, пепельный вторник, даже суббота и воскресенье — пепельные. Захрустел гравий; он поднял глаза и увидел, как к дому подъезжает машина. Открылась дверца, и мужчина, одних лет с его матерью, вылез навстречу ветру, с охапкой цветов и бутылкой — вероятно, вина, а может быть, виски. Дилл глянул на дом Писимуры — окна заливало вечернее солнце, и не было видно, следит за ним Писимура или нет, — и чиркнул спичкой.
Был понедельник, а Сэцуко ненавидела понедельники больше всего, потому что по понедельникам Сандзюро уходил на работу рано, чтобы подать пример остальным, выскальзывал из дому, когда еще было темно и маленькие ночные воришки — еноты, койоты и крысы — только-только разбегались по своим норам. Она просыпалась с первыми, едва уловимыми, проблесками света и лежала в тишине спальни, думая о своих родителях, о доме, в котором выросла, чувствуя себя деревом, которое срубили под корень. Это утро ничем не отличалось от остальных. Сэцуко проснулась, едва забрезжил рассвет, и долго лежала, глядя в потолок, пока предметы не обрели снова цвет; тогда она заставила себя подняться, спустилась в кухню и зажгла плиту под чайником. И только когда она осторожно дула уже на вторую чашку чаю и задумчиво смотрела в окно на зеленое густолесье бамбука, Сэцуко вспомнила, что сегодня не обычный день, сегодня день особый: Сюбун-но хи,осеннее равноденствие, в Японии праздник, хотя здесь он проходит незамеченным.
Сэцуко встрепенулась. Она сделает рисовые колобки охагив сладкой бобовой пасте, — их кладут на могилы предков, отдавая дань уважения душам умерших, — наденет одно из своих лучших кимоно и воскурит благовония, а потом, когда Сандзюро вернется домой, они совершат безмолвный обряд, и ни он, ни она словом не упомянут, что могилы их предков находятся за шесть тысяч миль отсюда. Сэцуко думала обо всем этом, стоя под душем: о том, как это далеко, и о том, какую же длинную метелку ей нужно раздобыть, чтобы дочиста обмести могильные плиты, — затем поставила вариться рис и вышла в сад. Если бы Сэцуко была в Японии, она бы, по древнему обычаю, убрала могилы родителей цветами — красной хиганбаной, —но здесь самое похожее, что она смогла отыскать, была бугенвиллея, растущая вдоль изгороди.
Когда она спускалась по склону с ножницами в руках, ветер хозяйничал в зарослях бамбука, а снизу, навстречу ей, вырастала крытая кёдровым гонтом крыша соседского дома. Там жил тот мальчишка; наклонившись, Сэцуко стала срезать ярко-красные плюмажи и класть на сгиб свободной руки, а увидев краем глаза у соседей во дворе жаровню, вспомнила позапрошлый — или это было позапозавчера? — вечер. Сандзюро был вне себя. Он специально сделал крюк, чтобы купить пластиковую брызгалку с зажигательной жидкостью для этих людей, мальчика и его матери, хотел им помочь, а мальчишка этот стоит там и в открытую, глядя на их окна, с идиотской ухмылкой подкармливает огонь горючим, выплескивая длинные радужные струи, пока те сами не вспыхнули. Неблагодарный! Непочтительный! Дрянной мальчишка, делинквент, Сандзюро давно это говорил, и мать… мать и того хуже, а еще учительница! Плохие они люди, вот и все, ничуть не лучше бандитов, которых каждый вечер показывают в новостях, которые режут друг дружку, истошно вопя, посмотришь на таких, и руки опускаются от отчаяния.