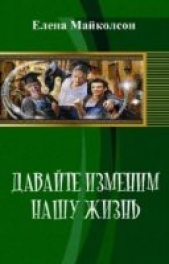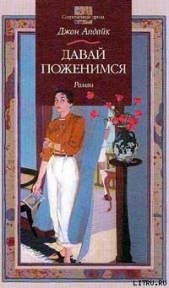Матисс

Матисс читать книгу онлайн
«Матисс» – роман, написанный на материале современной жизни (развороченный быт перестроечной и постперестроечной Москвы, подмосковных городов и поселков, а также – Кавказ, Каспий, Средняя Полоса России и т. д.) с широким охватом человеческих типов и жизненных ситуаций (бомжи, аспиранты, бизнесмены, ученые, проститутки; жители дагестанского села и слепые, работающие в сборочном цехе на телевизионном заводе города Александров; интеллектуалы и впадающие в «кретинизм» бродяги), ну а в качестве главных героев, образы которых выстраивают повествование, – два бомжа и ученый-математик.
Александр Илличевский – лауреат премии имени Юрия Казакова (2005); финалист Национальной литературной премии «Большая Книга» (2006; 2007); финалист Бунинской премии 2006 года (серебряная медаль), лауреат премии «Русский Букер» 2007 года за роман «Матисс».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот уже год, больше, с двумя-тремя корешами Вадя робко побирается у иностранцев, в отдалении от двухэтажных автобусов, стоит у ворот с шапкой перед воскресной заутренней и по праздникам. На территорию монастыря его не пускают. Таково распоряжение нового начальника монастырской ВОХРы. Единственное существо, которое его помнит здесь – еще мальчишкой: баба Варя, жена покойного кочегара, дяди Сережи. Она признала Вадю, привечала с полгода, – то пирожка вынесет, то сухарей, то паски ломоть, то супа в банке. Непременно обратно банку забирала, один раз разбили, греха не обобрались. Потом слегла, и увез ее сын к себе, в Воронеж, на атомную станцию, где работал техником. Так Вадя и рассказал Надюхе и корешам, что уехала баба Варя на ядерный завод, теперь там жить будет. Именно там, на ядерном заводе, таким людям место, никак не меньше.
Сотоварищи его считают образованным церковно уже за то, что он родился за монастырскими стенами. Все, что хоть косвенно относится к предметам религиозности, бичами понимается как святое.
И вот проходит год, и два – поздняя осень, раннее утро, часов восемь. Дымка висит над монастырем, сквозь нее над зубчатой стеной подымается белый шатер солнца. Оглушительно ссорятся воробьи. Люди через сквер спешат к метро.
Вадя подсел на скамейку к юноше, который кого-то поджидал, читая книгу. Через некоторое время юноша перестает читать. Он слушает Вадю.
С соседней лавки – выбравшись из забытья, качнувшись, к ним пересаживается человек, низенький, слабый, опухший. Протягивает грязную ладонь лодочкой. Держит. Кивает, силясь что-то сказать. Рука дрожит. Убирает, прикладывает к бедру, – нет сил держать на весу предплечье.
– Брат, – обращается он к юноше, – мать у меня умерла. Схоронить не на что.
Слеза течет по грязной щеке, оставляет грязное пятнышко.
Юноша, испугавшись, выгребает из кармана мелочь и, помешкав, добавляет из кошелька две купюры.
Человек засыпает с деньгами в руке. Пальцы его разжимаются. Монеты звякают. Юноша косится, но не поднимает.
– Бона, – разъясняет Вадя, – Коляныч. Мать у него померла.
– Постойте, – спохватывается юноша. – А что же он тут сидит. Как же так?
Вадя пожимает плечами.
– Бухаем пятый день. Никак не очухается.
– Постойте. Это тот самый Коляныч, которому та женщина голову отрезала?
Вадя улыбается сначала удовлетворенно, потом лицо его простеет, суровеет.
– А то. Он самый. Шрам у него тута, – Вадя режет ребром ладони кадык.
Юноша встает, присматривается к Колянычу. Тот дремлет, свесив голову на грудь. У него, в самом деле, виден под воротником, подобно толстому шнурку, безобразный багровый шрам. Юноша, усаживается снова, судорожно закуривает и протягивает пачку Ваде.
С двух лавок, выставленных на газон и сдвинутых фронтами, с мешков поднимается женщина в шерстяном платке. Присматривается вокруг.
Вадя прихлебывает, прячет бутылку на груди, из пачки вытягивает сигарету, пальцами испачкав белоснежные, как сахарная кость, соседние фильтры.
Юноша засовывает книгу в рюкзак. Он ждет своих друзей, живущих поблизости. Сегодня они должны отправиться в дальнее Подмосковье, по грибы, с ночевкой.
– Так что ж вы пьете все время? Не лучше ли бросить, – осмелев, он обращается к Ваде.
Женщина за скамейкой плюет на тыльную сторону ладони, трет глаза. Достает пластиковую бутыль. Льет на руку, трет еще.
– Тут, братишка, весной, в апреле еще, случай был. Вот как на духу тебе скажу.
Вадя достал расческу, приминая ладонью, поправил волосы, спрятал, посмотрел вокруг, кивнул юноше и вздохнул, набирая воздух для рассказа.
– Запили тогда мы крепко. Со мной еще был Пантей с Беркино, сугубый малый, при деньгах слыл в ту пору. Ну, значит, пьем мы день, пятый. Только смотрю – сижу вот как сейчас с тобой… Да. Коляныч со мной сидел тож. Только спал он тогда.
(Хлопает Коляныча по шее. Коляныч рывком поднимает невидящий взор на студента. Мычит, кивает. Сует деньги за пазуху, остальные монеты тут же выкатываются из-под полы ему под ноги.)
– И вот вечер уже, колокол отзвонил, люди идут, идут, почти и сошли все… Только смотрю я – оттуда, сверху свет несильный, и спускается… Матерь Божья. Встает. Я аж обмер. Белая-белая. Шевельнуться не могу. Руки, ноги отнялись. Грудь жар раскрыл. Спрашивает меня строго. Матерь-то Божья… «Меня послал к тебе Иисус Христос. Он спрашивает с тебя. Если ты пить не бросишь, в феврале помрешь. Понял?»
Тут Вадя сморщился, навернулись у него из глаз слезинки, он двинул рукой, скривился. Широко раскрыл глаза. Теранул кулаком по щекам.
– Заплакал тогда я горько, силушки уж нет, на сердце слабость… Поплакал я, значит, встал на колени и говорю ей: «Прости меня, Матерь Божья».
Припав на одно колено, Вадя крестится.
– Прости мою душу грешную, только передай ты Иисусу… Отнюдь я пить не брошу. Нет в том у меня никакой возможности. Так и передай, будь добренькой.
Юноша сидел, приоткрыв рот. Его друзья подошли к пешеходному переходу, остановились в ожидании «зеленого». Машины шли на поворот сплошным потоком. Юноша был поглощен рассказом.
– И она исчезла?
– Взяла и ушла. На пруд пошла, видать. Спустилась на берег. А у меня ноги отнялись. Так до ночи и просидел, пока Надюха не оттащила.
– Как ушла? Не… вознеслась? – юноша недоверчиво покачал головой.
– Ушла, ушла… Царица, – Вадя махнул рукой и вытер глаз.
Юноша сосредоточенно отсчитывает про себя число месяцев, бормочет:
– Декабрь…
Друзья окликают его. Подхватив рюкзак, он срывается с лавки.
Вадя любит причесываться. Пока Надя умывается и трет пальцем зубы (делает это осторожно, и вдруг морщится – болит коренной), – он сидит нога на ногу и орудует алюминиевой расческой без двух зубьев.
Долго, тщательно ведет густые черные волны наверх и вбок, правит ладонью, клонит голову, что-то высматривая в пудренице с колена. Потом осматривает зубья на просвет, с сипом сдувает перхоть, озабоченно, ловко прижимая ногтем побежавшую вшу, похожую на крохотную черепашку. Потом закуривает. Дым пускает исподлобья, с угла рта, щурится, – то подправляя пилочкой длинный, со спичку, ноготь на мизинце, то придирчиво обследуя расческу, постукивает ею, смотрит вдоль, выправляет изгиб. И, подумав, разглаживает ею бороду.