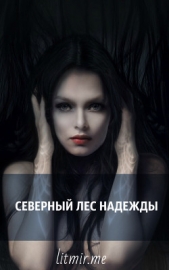Превращение Локоткова

Превращение Локоткова читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Студенты с любопытством глядели на нее и на худого, горбящегося, коротко, не по-вольному стриженого мужчину, пытаясь, видимо, догадаться: кто же это такой может быть?
— Ступай, спасибо за пальто.
Пошла, покачиваясь, обратно в аудиторию — сытая, фигуристая, с пакетом в руке. «Как одета, стерва! — злобно подумал Локотков. — А дочери на пальто денег не могут найти, оно и стоит-то копейки…»
С проходящими мимо преподавателями Локотков не здоровался — боялся, что не ответят. Вот как! Пути обратно прикрыты, и надежно, кажется. Туши свет, кандидат… Однако не уходил, бродил и бродил по коридорам, держась одной стороны, словно попавший туда впервые абитуриент. Он пытался растравить в себе чувство неправедно изгнанного, вызвать злость, но из этого ничего не выходило — куда ни кинь, все получалось справедливо, и от холодного сознания того становилось все жутче. Темно, страшно… Как тогда, в Петропавловке.
5
Он учился в аспирантуре, и приехал в Ленинград в научную командировку. Локотков оказался тогда впервые в Ленинграде, и города совсем не знал, и намеревался изучать его весьма тщательно — как-никак столбовая дорога Истории текла и через него, и была в этом месте каменной, прямой, государственной. Доски на зданиях потрясали его, содержание некоторых он помнил еще со времен учебы в вузе. Например: «БАСТIОНЪ ТРУБѢЦКОЙ ОДѢТЪ КАМНЕМЪ ПРИ ИМПЕРАТРИЦѢ ЕКАТЕРИНѢ, 11. 1785 года». Это уже было в самой Петропавловке, куда он поехал через неделю пребывания. Посещение крепости Локотков замышлял для себя как мероприятие очень и очень важнее: некогда там, в одной из камер-одиночек, отбывал наказание видный революционер-народник — объект научного интереса Валерия Львовича, центральная фигура его кандидатской диссертации. Пока копался мелкий материал, добывались цифры, фактики из архивов — сам герой существовал для Локоткова лишь в гипотезе, собранной из житейских незначительностей (например, он знал, какой сорт табака любил курить революционер), а никак не плоти, в виде человека, стоящего в сюртучке на каменном ледяном перекрестке, где звон православных колоколов, тучи кладбищенских галок над головой, едущие за идею на эшафот люди в шапках из грубого шинельного сукна… История вытолкнула его на поверхность, зарядила ненавистью, жаждой дела — и, взмахнув вечным, неустающим крылом, сомкнула ему веки, когда пришел срок. Но Локотков понимал также, что жизнь и деятельность человека, уместившиеся на каком-то временном отрезке, невозможно вычислить полностью только содержанием его статей, иных выступлений, писем, допросных протоколов, знанием круга общений. Как-никак, было и другое: гулял с бонной, играл в карты с прислугой, ловил карасей в деревне, в гимназии — пускал бумажных ворон и пакостил нелюбимым учителям, влюблялся, писал записки, мучился, терпел унижения, голодал… Словом, жил в эпохе. И предстояло уловить ее суть, такт ушедшего ее дыхания — а дальше станет уже проще, целый пласт Истории вскроется перед тобой, и станут понятны силы, катающие мягкие клубки дворцовых интриг, галдеж в торговых рядах по базарным дням, редактор в бобровой шубе, едущий на извозчике отбывать арест. А как это сделать? Выпускнику провинциального факультета, мизерного и малоспециализированного, менее всего ориентирующегося на развитие научных наклонностей (учителей! учителей!), Локоткову приходилось тяжелым трудом, упорным усилиями ума и воли добирать свободу в овладении материалом, умение мыслить теоретически отвлеченно, ощущение слитности со временем, — те данные, которыми отличались даже весьма заурядные выпускники столичных вузов. Зато сколько было открытий, мятного холодка новых мыслей! Лично для него диссертационная работа, как считал Валерий Львович, должна была приоткрыть завесу над временем, по которому он собирался в дальнейшем специализироваться. Полнейшая ориентация, тонкое чувство эпохи, основанная на том раскованность — какую это даст власть над студентами, уважение в ученом мире, возможности для будущего!..
А надо признать — все это было. И что же получилось в итоге?..
Так вот — свое врастание в нужную эпоху Локотков решил начать не откладывая, сразу по своем приезде в Ленинград. Попав с последней группой экскурсантов в Петропавловскую крепость, он, улучив момент, отстал от своих и юркнул в одну из открытых камер каземата. Люди ушли, прогремели замки на дверях, погас свет. А он остался.
Сначала он сидел на полу в углу камеры, пытаясь вобрать в себя мощь огромного каменного узилища, окруженного тяжелыми свинцовыми водами. Распростертых над островом построек с множеством камер-мешочков. Слышался в темноте перестук арестантского телеграфа, скрип железных дверей, сонные стоны узников, иногда вспыхивал силуэт солдата-охранника в грубой шинели, с мятым погоном на плече. Но потом видения и слухи ушли, и Локотков понял, что кругом стоит мертвейшая тишина. Он тогда встал, начал ходить по камере, стукать в стены, пытаясь взбудоражить себя. Не хватало и зрительных ощущений, и Валерий Львович впервые пожалел, что не курит — тогда можно было бы через какие-то промежутки времени зажигать спички, и так скоротать время до рассвета, до времени, когда пойдут экскурсанты. Вскоре он опять скрючился, зябко сжался в углу. Локотков был уже близок к обмороку, когда услыхал: запели где-то вдали, перекликаясь сладчайшими своими голосами, две флейты-пикколо. Мелодия их, чистая и отрывистая, быстро потерялась в гуле других инструментов: барабанов, валторн, медных тарелок. Где-то рядом шла История, тяжко и устало ступая. Она шла далеко от крепости, своей длинной, ухабистой и непонятной дорогой. Что для нее была какая-то тюрьма? Песчинка, пустяк, сущая чепуха. Но сами шаги, перекличка сопровождения долетали сюда четко, резонировали, отталкивались от стен, и исчезали, поглощенные черным пространством темницы. Души узников журавлями метались под сводами, роняя невидные белые перья. Они осыпали скорчившегося в первобытной мгле Локоткова, и он чувствовал, как удары его пульса сливаются постепенно с ударами дальнего тамбурмажора. Разговор нищих на папертях, газетная кутерьма, перекличка на плацах дальних линейных батальонов, утренний чахоточный кашель бомбиста-динамитчика… Уловлено в то мгновение было главное — язык Истории той эпохи, и теперь Валерий Львович ощущал себя в непривычной роли — как бы переводчика с этого языка, подобно тому, как в сказках существуют переводчики с птичьего или звериного. Сердце его набухло, вспучилось, сделалось огромным, и теперь, пульсируя и сжимаясь, словно бы выскочило из слабой грудной клетки хозяина и билось одиноко в темном тесном закутке, оглушало своим шумом камеру. Чего-нибудь страшнее тех полусуток он не мог себе представить.
Ночь, проведенная в крепости, осталась в локотковской памяти и еще по одной причине: вернувшись тогда из командировки и пообщавшись с научным руководителем, он понял, что гораздо лучше, тоньше, обостреннее понимает дух того времени, той эпохи, где побывал, вообще — лучше чувствует Историю, нежели этот лысый схоласт, напичканный директивами, цифрами и анекдотами. Одно огорчало порою: героя своего исследования он так и не почувствовал как человека, тот так и ушел от него неощущенный, заслоненный выкладками, документами, учеными словами. «Ну, Бог с ним, это ли главное!» — стал со временем думать Локотков, и совершенно в том уверился. Легко, блестяще защитился, легко вошел в авторитет, вообще легко жил, отлично сознавая, что будущее за ним.
И — пожалуйста, где оно теперь, будущее?