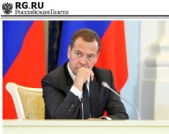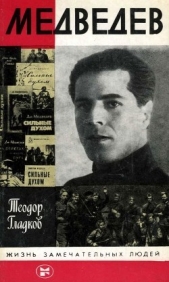Невозможно остановиться

Невозможно остановиться читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут все получается само собой. Соня опирается руками о борта ванной, поворачиваясь ко мне царственным своим задом, а я, увидев ее мраморные ягодицы и темную прорезь ловушки, устремляюсь в нее, как есть в мыле, с всхлипом и захлебом в горле.
Соня, странное дело, не темпераментная кинозвезда в минуты близости. (Почему-то я считаю, что все кинозвезды неистовы и неукротимы, ибо работают в жарком свете юпитеров, а все, например, фигуристы от постоянной близости льда холодны и равнодушны к ласкам.) Она ни в чем не отказывает, все делает на пятерку, но слишком правильно и обстоятельно, словно играет в постели по методу Станиславского…
АКТ 2.
Мы возвращаемся из ванной комнаты, покачиваясь, обнявшись, с песняком. То есть поет Соня — сильным, чистым контральто. Не о Синае поет, не о пустыне Авраамовой (это было бы понятно), а: «По ди-иким степям Забайкалья… где золото моют в гора-ах…» — причем, золотые огромные кольца в ее ушах раскачиваются и поблескивают.
Так, обнявшись, с песняком, входим мы в спальню, половину которой занимает царственное семейное ложе четы Голубчиков. И что же мы видим? Это непросто описать. Может быть, пропустить? Я боюсь, что друг-читатель, листая эти страницы, и без того содрогается от отвращения, негодует, а то и бегает время от времени в туалет с рвотными позывами… Но Теодоров, простите меня, воспитан на методе соцреализма, который, как я понимаю, должен копировать жизнь с неумолимой точностью, оком суровым и объективным, — я помню суровые обличения писателей в лакировке действительности! Поэтому честность отчаянная руководит мной, гордость за метод, вера в силу правды, а не медицинское желание облегчить ваши желудки — что вы! И вот реалистическая сценка, ничуть, кстати, не страшная, невинная даже: поэтесса моя лежит в свете люстры, разбросав ноги, откинув голову, закусив губу, с нежным страданием в лице и пальцами самозабвенно ласкает, ласкает, теребит, ласкает, теребит свое открытое лоно… о!
Песня о бродяге обрывается. Соня восклицает:
— Боже мой, посмотрите на эту сучку! Она не могла дождаться! Оксанка! Сучка! Ну-ка перестань! Слышишь?
— А я хочу-у! — поет та, обращая на нас свои закатившиеся глаза.
— Она хочет, ты слышишь, Юрочка? Она хочет, эта сучка! Мальчик мой, ты что остолбенел? Что нам с ней делать, с этой злоебучей? Мне ее жалко, честное слово! Помоги ей, Юрочка, черт с ней! Я не буду в обиде, боже мой!
— Ага! — каркаю я. — Можно.
— Иди-и! — поет Оксана, протягивая ко мне оскверненную свою руку. — А ты, Соня… это самое… не уходи. Полезай туда подальше.
— Боже мой, она же меня изнасилует, я чувствую! Ты ко мне не смей прикасаться — слышишь, Оксанка?
И Соня, царственная, роскошная, с тяжелыми грудями, мраморнозадая пытается перелезть через Оксану в глубину необъятного ложа, но не-тут-то было! Оксана пылко и цепко обхватывает ее руками и быстро-быстро целует одну и другую, ту и эту, тяжелые Сонины груди.
— Я тебе что говорила, Юрочка! — кричит Соня, упираясь руками в плечи своей гостьи. — Боже мой, какая сучка! Ну-ка пусти! — хватает и сильно тянет она Оксану за ее короткие волосы.
Тут уж я вмешиваюсь (а мой бесноватый опять стоит на страже, как часовой, очень нервничая).
— Соня! Со-оня! — хватаю я за руки Соню. — За что ж ты ее, бедную? Она же тебя любит. Соня.
— Люблю-ю!
— Видишь, Соня, она тебя любит, — вразумляю я.
— Ты сядь на подушку, сядь, — вдруг осмысленно заговаривает из-под нее Оксана. — Ты только сядь — и все. Я сама все сделаю, Сонечка. Тебе ничего не надо делать. А Юрка пусть меня…
И выскальзывает из-под Сони. Но не отпускает, а переворачивает ее — тяжеленькую — и, подхватив под мышки, усаживает на подушку. Актриса изумленно и растерянно смотрит на меня.
— Юрочка, что она со мной делает! И ты, хулиган, позволяешь? О, боже мой! — вскрикивает Соня.
Спальня плывет в моих глазах, странно накреняясь и покачиваясь, боже мой! Я пристраиваюсь сзади Оксаны. Головокружение. Падение?.. Вознесение?.. Рай? ад? Проклят буду или прощен? Надругательство над природой или погружение в тайны ее? «Огонь моих чресел…» — кто так сказал? Лиза, Лиза! Святой дух не осеняет меня. Я не выше облаков, я не парю. Сердце стучит мне: нет, нет. Пребываю там, где хочу, а не там, куда занесло. Ночь с тобой никто не отнимет. Пускай так, но пускай и по-другому, в том желанном свете, озаряющем пустынное море, тот берег… Я умру, я, конечно, умру вскоре, но не в одиночку. Благословенным не быть, но и черная тьма — это не я. Больно душе.
Рай-ад, рай-ад, ад-рай.
АКТ 3.
— Драматург ты мой пьяненький, ну поговори со мной. Эта сучка дрыхнет. А ты что же? Выдохся, бедненький, да?
— Это все сволочь лимонная виновата. Прости.
— Ну, как же так, Юрочка. Я тебе про свою жизнь хотела рассказать, а ты…
— Сволочь лимонная, прости. Утром.
— Я эту бешеную матку спозаранку выгоню!
— Ага. Давай. Сплю. Утух.
8. ОСВАИВАЮ МОСКВУ И…
«Нас утро встречает прохладой. Трам-там-там-там-там-там-там-там!» — поет где-то вдалеке Соня. Странный репертуар у кинозвезды!
Я лежу на необъятном ложе один, тупо уставясь в люстру с блестящими в солнечном свете хрустальными висюльками. Слушаю песню и думаю, что грянь вдруг сейчас Гимн Советского Союза, я бы тут же с криком, в страшных корчах скончался. Но и эта песня про кудрявую не вдохновляет меня, о нет! Одно хорошо, думаю я, что исчезла ужасная Оксанка-насильница. Я о многом думаю, не в силах подать голос — так спеклась и ссохлась гортань. Птички, думаю я, никогда не просыпаются в таком безнадежном состоянии. Кузнечики тоже. Всякая тварь Божья счастливей Теодорова. Солнце наверняка счастливей меня. На океане, может быть, прилив — он счастлив и здоров. Никто не мучается так, как я. Причем, число нынешнее неизвестно, день — один из семи. Небезынтересно мне знать, сколько у меня осталось денег, хватит ли их на метро. А ты, Лиза, не можешь даже поднести мне водички. Сидишь сейчас в своей редакции — умная, зеленоглазая — и не подумаешь, что Теодоров практически агонизирует. Скорпион сострадательней тебя, злая ты Лиза, кудрявая из песенки скорей мне поможет, чем ты, Лиза Семенова.
Я также думаю — не в силах открыть пасть и позвать Соню, — что Малеевка, наверно, сильно беспокоится. «Где это наш Теодоров?» — спрашивают там друг друга. Все ходят растерянные, подавленные, никто ничего не пишет — ни стихи, ни прозу. Думают: «А икде же это наш славный Теодоров?» Жалко их даже, так переживают. А еще этот, елки-палки, кооператив издательский. Туда надо ехать и там беседовать. А они, увидев такого порочного Теодорова, могут напугаться и аннулировать предполагаемый договор. Там, может, таких нечеловеческих авторов сроду не видели. Все может быть. И потому непонятна мне утренняя жизнерадостность Сони Голубчик. Наверно, она думает, что проснулась в Тель-Авиве, а между тем все еще находится на Выставке достижений народного хозяйства.
— Соня! — исторгаю я из себя все-таки звуки. — Со-оня!
Друг-читатель, наверно, заметил, что я часто зову вот так на помощь хозяек. Обычно они откликаются, если они люди, а не хищные звери из джунглей. Вот и Соня прибегает, услышав-таки. В кимоно, боже мой, всамделишном, японском.
— Проснулся, родненький! — весело кричит она. — И что моему мальчику надо? (Это, видимо, я «родненький» и «мальчик».)
— Лимонной… подай… Соня… — складываю я ответ.
— Да ты бы сначала душ принял, Юрочка! А я как раз на стол накрою.
— Нет, Соня, — хриплю я. — Корочку хлеба и лимонной, а потом уж это самое…
— Ну, хорошо, хорошо! О чем речь, если надо! Голубчик мой такой же — ты думаешь, он не пьет? А ты знаешь, он звонил. Оправдывался, что не явился на ночь. Забыл, блядунчик, с перепоя, что я сама его выгнала! — хохочет Соня — свежая, пышная, многоцветная в своем кимоно.
— Хороший у тебя муж, Соня. Очень. Ну, неси, Самохина, неси, Христа ради! (Это я вспомнил редакторшу из своей пьесы незабвенной.)