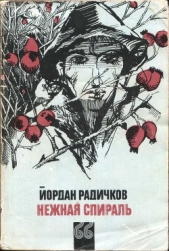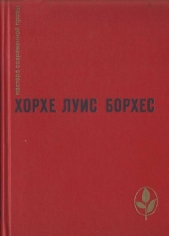Избранное
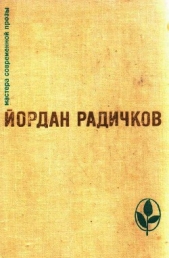
Избранное читать книгу онлайн
В книгу включены повесть «Все и никто», интересная масштабностью нравственной проблематики, рассказы из сборника «Пороховой букварь», удостоенного Димитровской премии, — об участии болгарского народа в борьбе против фашизма, — а также несколько лирических новелл. Это наиболее талантливые произведения писателя, характеризующие его как выдающегося мастера современной болгарской прозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Это вам-то кончить не дают! — кричит полицейский снизу. — Мелешь языком, как баба! Где нужно, там и поговоришь, а мне это все без интересу». — «Хорошо, — говорю, — раз я арестованный, так я слезу», — но слезать не спешу, а держусь себе за стожар. Держусь и смотрю, куда мне лучше дернуть, в какую сторону. Пожалуй, лучше всего через двор Ивана Татарова, потому что с другой стороны сидит патруль. В патруле доверенные люди, тут же стрелять начнут. Думаю я про это, поворачиваюсь наверху на стоге, посматриваю на полицейского, а какой-то внутренний голос мне подсказывает: «Берегись, Велико, времена теперь не прежние, полиция озлилась! Волчьи теперь времена, берегись, Велико!..»
Появиться бы сейчас откуда-нибудь той буйволице и запыхтеть бы: пфу, пфу, — да и кинуться на полицейского! Но нету той буйволицы. И заяц не выскакивает — не за кем мне броситься с криком: «Держи его, удерет, сукин сын, перекрывай оттуда, господин унтер, я сейчас на тебя погоню!» Нету ни буйволицы, ни зайца, повсюду расставлены часовые, все перекрыто, а рядом с Флоровой телегой сидит патруль. Полицейский стоит перед стогом, с винтовкой на плече, а я стою на стоге, как солнце на небе — никуда ему не свернуть, никуда не спрятаться, все голо вокруг.
По ночам, когда подо мной шуршал соломенник и я подолгу на нем ворочался, я не раз думал, что, если за мной придут, это случится ночью. Начнут колотить в дверь прикладами, я буду делать вид, что никак не могу проснуться, а потом пойду открывать и все буду ронять в темноте какие-то предметы и оправдываться: «Сейчас, сейчас, сами знаете, деревенские мы, все по дому разбросано, подождите, дайте свет зажгу, ах, чтоб его!..»
И, бормоча эти бессмысленные слова, я уже сжимаю в руке топор и широко распахиваю дверь. Первым встретит их топор, первого человека я свалю топором, другие отпрянут, и пока суд да дело — я растворюсь в темноте. Вот что я представлял себе ночами, слушая, как деревенский патруль кричит: «Кто идет?» — и щелкает затворами карабинов. Потому и топор у меня всегда был за дверью, на посту, чтобы никто не застал меня в доме врасплох. А получилось, что арестовывают меня средь бела дня, топор от меня далеко, за дверью, я стою на недоконченном стоге, патруль сидит в кювете, Иван Татаров постукивает шаляй-валяй по обручам своей бочки и поглядывает из-под кепки на мой двор. Сено шуршит у меня под ногами, тот голос шуршит мне в ухо: «Берегись, Велико!»
Прислушиваюсь я к этому голосу, качаю головой, говорю Ивану Татарову: «Слышь, Иван, стог не дают закончить! Ты гляди, какой народ несговорчивый!» — «А что ему глядеть, — влезает в разговор полицейский. — Иван Татаров — благонадежный человек. Благонадежных мы не трогаем». — «Хоть и благонадежный, — говорю я полицейскому, — а пусть глядит хорошенько!»
И я отпускаю стожар, опираюсь на вилы, чтоб не скатиться со стога, а Иван Татаров перестает стучать по бочке и смотрит, как я буду спускаться. Спустился я самым простым способом, как дети спускаются, — сел и съехал вниз, но вилы из рук не выпускаю. И чувствую в себе каждый мускул и каждую жилку. Зубья вил вспыхивают и гаснут у меня перед глазами, вспыхивают и гаснут…
И как только я ощутил под ногами землю, я изо всех сил замахнулся вилами, как штыком. Они вошли полицейскому чуть ниже пояса, раздалось лишь мягкое «хр-р», такое же мягкое «хр-р», какое послышалось, когда молот разбивал голову лошади. Полицейский схватился двумя руками за рукоять вил, словно хотел вытащить, да не сумел, вилы засели глубоко, и он упал, согнувшись пополам. «Дуй теперь, Велико, и дай бог ноги!»
Перескочив через плетень, я налетел прямо на Ивана Татарова. Иван Татаров ни жив ни мертв стоит около своей бочки, потом застучал по ней молотком — будто обручи набивает, — но бочка у него вывернулась, опрокинулась и — двор-то покатый — с грохотом покатилась к улице. Патруль выскочил из кювета и стал ловить бочку, лошадь Флоро заржала, Иван Татаров все машет молотком в воздухе, будто обручи набивает. Сухая трава по ту сторону двора затрещала у меня под ногами, загремели выстрелы, надо мной со свистом прошла пуля. Потом стрельба усилилась, я услышал собачий лай и, добравшись до Керкезского леса, оглянулся. Во дворе у себя я увидел высокое пламя — горел стог сена. Сейчас загорится сарай, который я так и не успел покрыть свежей соломой, а за сараем — дом. Я не мог больше смотреть, пошел дальше в лес, а оттуда уж я знал тайные тропы на Зеленую Голову.
Через год мы спустились с Зеленой Головы в нашу деревню, и, пока мы спускались, я смотрел, как она приютилась, нетронутая, в неглубокой ложбине, и кое-где уже успели перекрыть летошней соломой крыши сараев. Только на моем дворе ничего нет — одна черная зола, развалины да бурьян. Прямиком через заросли бузины и крапивы вхожу во двор, смотрю — огонь все сровнял с землей. И среди бузины и крапивы вижу светлый зеленый круг. Молодая травка проросла в том круге, мягкая травка, мелкая, как ежиковы иголки. По этому кругу я узнал, где я оставил тогда недоконченный стог сена. Стою я в бузине и думаю: «Как эта молодая трава, так должна теперь прорасти новая жизнь, Велико, на голом пепелище прорасти!» В соседнем дворе кто-то принимается стучать молотком по бочке, я смотрю по-над бурьяном и вижу, что Иван Татаров наколачивает на бочку обручи. «Изменилось ли что на этом свете?» — спрашиваю я себя и глубоко вдыхаю запахи своего опустелого двора. Запахи не бог весть какие — пахнет пепелищем и молодой травой.
Хлеб
Занятие у нас невидное — не с чем на люди показаться. Пекарское наше занятие! Встаешь ни свет ни заря, тесто поставишь, потом идешь печь растапливать, обернуться не успеешь, глядь — тесто уже подошло, подымается в квашне, словно вылезти хочет. «Давай, жена, месить, — говорю я жене, — а то печь остынет!» И мы беремся месить тесто и делать круглые караваи; как половину сделаем, я начинаю сажать лопатой караваи в печь, а жена доделывает остальные. Отовсюду пышет жаром, глаза щиплет от пота и тепла, но работа у нас такая, что, пока я печь заслонкой не закрою, ни на минутку присесть не могу. Тесто — дело живое, все равно как живой человек возле тебя дышит, оно канителиться не дает.
И только когда я задвину заслонку, я могу сесть и выкурить цигарку, а жена садится клеить талоны от карточек. Времена карточные, хлеба в обрез, жене каждое утро велено в комиссариат являться, отчитываться талонами за муку. Комиссариат дает тебе столько-то и столько-то муки и требует за нее столько-то и столько-то талонов. Если одно с другим не сойдется, не видать тебе больше муки, гаси печь и закрывай лавочку!
А холодная печь хуже, чем мертвый человек!
Так вот, сижу я, покуриваю, смотрю, как жена клеит карточки, и прислушиваюсь одним ухом, не идет ли Милойко. И не успеваю я докурить цигарку, как появляется Милойко с тремя мулами. «Доброе утро, дядюшка Ангел». — «Доброе утро, — отвечаю, — ишь в какую ты рань собрался!» — «Приходится, дядя Ангел, горы-то вон где, пока доберусь, да пока дров нарублю на три поклажи, да пока вернусь, как раз и стемнеет. Да и лесничество не разрешает теперь рубить на старой лесосеке, вот и карабкаемся, как козы, к самым Тодориным Куклам, там хворост собираем. А туда не приведи бог с мулами добираться, у них все подковы поотлетали, прямо босиком скотина ходит!»
Мулы стоят перед пекарней, на всех трех — пустые седла, смотрят на нас и головами качают. «Дай мне один каравай, дядя Ангел, только вчерашний. Хлеб когда почерствей, его надольше хватает». — «А мешок возьмешь?» — спрашиваю я и показываю на мешок под прилавком. «Возьму, я обещал, что нынче привезу, люди ждать будут!» Он наклоняется и берет мешок с мукой. Мешок этот мне один почтарь дал, государственный мешок, из тех, в которых почту перевозят. На нем и штемпель стоит почты и телеграфа царства Болгарии. Хорошая штука, непромокаемая, его хоть в реку брось, мука все равно сухая останется. Все это я объясняю Милойко, пока он приторачивает мешок к седлу. Мешок он прикрывает рядном, отламывает кусок хлеба и дает мулу. «Ладно уж, поешь хлебца, тебе в гору груз везти!» Другие два мула, повернув головы, смотрят, как жует нагруженный мул, потом отворачиваются от него и смотрят на Милойко. Тот берет нагруженного мула под уздцы и ведет его вверх по улице, а другие идут следом, потому что они привязаны один к другому.