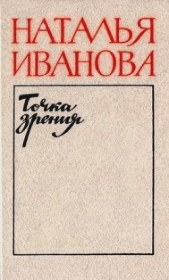После бури. Книга первая
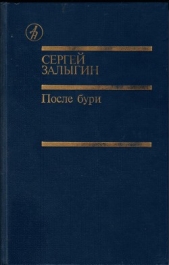
После бури. Книга первая читать книгу онлайн
Главный герой романа лауреата Государственной премии СССР Сергея Залыгина — Петр Васильевич (он же Николаевич) Корнилов скрывает и свое подлинное имя, и свое прошлое офицера белой армии. Время действия — 1921 — 1930 гг.
Показывая героя в совершенно новой для него человеческой среде, новой общественной обстановке, автор делает его свидетелем целого ряда событий исторического значения, дает обширную панораму жизни сибирского края того времени.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Четыре прошло, и нет военного коммунизма, будто его и не было, а если и был, так чем-то, скорее всего, теоретическим; был, чтобы записать в историю государства карточки хлебные, четверть и полуфунтовые, жалованье в три-четыре миллиона в месяц, выдачи четверти фунта мыла по «детским талонам категории «А» с объявлением об этом событии в газетах, был, чтобы записать союзы полу- и голодных писателей и особенно художников, которые возникали, как грибы, в каждом городишке, каждый Союз со своим собственным манифестом, с заковыристой какой-то творческой программой и обязательно на обеспечении пролетарского государства, причем опять-таки по той же привилегированной категории «А» с фунтовым хлебным пайком...
Художников в ту пору развелось — пруд пруди! Тем более что в порядке «депрофессионализации искусства» низвергались в прах Суриковы, Репины, Врубели.
С другой стороны, монументальная пропаганда — снятие памятников, воздвигнутых в честь царей, с постановкой монументов в честь событий Великой Революции, а затем уже и огромные митинги на этих «уличных кафедрах», в местах, где монументы были заложены... Заложено их было множество, гораздо меньше осуществлено. Новая политика явилась, не только экономическая, но и донельзя экономная, ей манифесты, пролеткульты, монументы — что? — ей подавай рупь! Золотой рупь, твердый как сталь, валютный, сверхбуржуазный в том смысле, чтобы доллары, фунты стерлингов, франки, риалы, динары, пиастры его боялись как огня. Нажил этот советский рубль — поезжай в тот же Лондон либо нанимай цыган и пируй по старорусскому образцу в московском «Яре», не нажил — трудись в высокооплачиваемом производстве, в металлургии либо на кожевенном заводе за рубль двадцать в день, с надбавкой 17 процентов за сверхурочные, изучай материалы очередных конгрессов Коминтерна, развивай в собственном сознании идеи социализма...
Как сменилась музыка, как сменилась!
И как сменился под нее Корнилов!
Однако ни в коем случае нельзя позволить ликвидатору неграмотности вовлечь себя в авантюры всяческих мыслей и воспоминаний! «Нельзя!» — подумал Корнилов, а Митрохин как раз в это время сказал:
— Как надо подумать человеку, как надо подумать, прежде чем подумать! — Неуверенно осмотрелся по сторонам: правильно ли он вспоминает? Так ли Федор Данилович Красильников говаривал?
«Ну, сам-то Митрохин, своим умом, конечно, никогда не бросил бы в скважину какой-то посторонний предмет, не навредил бы. А если его кто-нибудь этому научит? Устно? Тем более печатно?»
Кто?
У Митрохина была дочь Елизавета...
Два раза в день она приезжала на буровую — в огромных чугунах привозила завтрак и обед.
Всегда веселая.
— Кому же пропитание-то везти, когда едоки мои в землю, поди-кось, уже зарылись?! Гляжу, нет, вот оне, все еще наверху!
И Елизавета закатывалась смехом, быстро расставляла на кое-как сколоченном столе нехитрую свою утварь — чугунки, чашки-ложки.
— А это дочерь моя! — всякий раз говорил Митрохин, а Елизавета и тут отвечала:
— Ей-богу, правда! Я ему дочерь, а он мне батя! Факт действительно требовал подтверждения: у маленького, неказистого Митрохина и такая дочь — едва ли не косая сажень в плечах, и голос не только не отцовский, но как будто бы даже и не ее, а чей-то чужой, она голосом этим шепотом и тихо слова сказать не могла. Сказала — и далеко-далеко кругом слышно.
Лицом же Елизавета была точь-в-точь в отца, но увеличенная в полтора-два раза и с косами. И тут было видно, что Митрохин-то, оказывается, недурен собою!
— Ей-богу, он мне родной отец, мой батя! Ну, я ко-о-огда еще углядела, что он малоой мужик-то, и тот же раз надумала уродиться в дедушку!
— Цыть ты! — сердился Митрохин. — Отец родной — шутка тебе, что ли?
— А вы не серчайте, батя, нельзя! От серчания в человеке аппетит иссыхает!
— Иди к нам, Лизавета, в партию! Будешь штанги ворочать За Двоих. И Двойное жалованье тебе хозяин Корнилов положит! — ввязывался Сенушкин и нехорошо щурился.
— Не пойду!
— Что так-то?
— Щипаться будете! Мужики не могут без того, а мне к чему?
— Недотрога! Замуж надо! Завтра же! Подыскать какого Ванюшу, от горшка два вершка, он тебя и возьмет!
— Не чаем с матерью выдать! — вздыхал Митрохин, не замечая сенушкинского прищура.
— Ну так и выдал бы! — и еще прищуривался Сенушкин.
— Не идет!
— Не иду! — подтверждала Елизавета.— В девках лучше, как замужем, вольнее!
— В старых девках останешься!
— Я перед тем, как в старые девы-то идти, посвищу — женихи-то и прибегут! Я свистеть сильно умею. Который раз парни на деревне пересвистываются, созывают друг дружку, а я и собью их с толку, они и ходят по всей деревне, ищут кто кого. Смешно!
— Просвистишься! Поздно будет!
— Тогда на учительницу пойду учиться!
— А учительницам замуж не надобно?
— Им не обязательно! Они детей учат — вот ихнее дело!
Снова вмешивался Митрохин-отец;
— Это, сказать, так учительница наша, семенихинская, мою дочерь надоумила — не выходи, дескать, Лизавета, замуж, это вовсе не обязательно! Ничего хорошего в замужем нету! И за что только жалованье от Советской власти учительница эта получает, совершенно непонятно! Грамотная, а такой проповедует разврат!
— Она сама-то замужняя? Ваша, семенихинская, учительница? — Поинтересовался Корнилов у Елизаветы.
— Какое там! Два раза замуж ходила, от обоих мужьев ушла, вот и узнала: ничего хорошего в замужестве нету
— Она-то вишь как хорошо испробовала — на два раза, а ты так без единого и проживешь? — оглядывал огромную Лизаветину фигуру Сенушкин.
— Кто его знает... Который раз так и попала бы взамуж, но на воле все ж таки лучше... Я ее еще не видела, воли-то... Как себя помню, все воина, разоренье, вдовы, ребятишки-безотцовщина, одеть-обуть нечего. А нынче нэп сделался, я сытая-обутая-одетая, батя у меня добрый, так что мне жизнь-то менять? Чего ради? Разве что на учительницу выучиться... Либо вот на песни? Песни чтобы петь!
— Мы уже с матерью за сто с лишком верст к старушке ее к одной возили, Лизку-то,— сообщил Митрохин всему честному обществу,— к старушке, чтобы приворожила к хорошему какому-либо и грамотному, конечно, парню, чтобы посодействовала, но нету! Нету ни помощи, ни содействия ни с чьей стороны, хотя убейся! Как ровно в пустыне какой, а вовсе не среди человеческого и даже передового общества! Теперь я думаю: может, ко властям все ж таки пойти? Нынче власти во многом народу способствуют!
— Власти не решают личных дел! А не дай бог, начнут решать, ты, Митрохин, не обрадуешься! — будто бы и нехотя, но обстоятельно говорил мастер Иван Ипполитович.— Да и не пойдет твоя Елизавета к властям, зачем ей?
— Пойду! — громко подтверждала Елизавета. — Я и к старушке к той за сто верст с охотой ездила! Мне интересно! Что да как она шепчет, какие травки у нее, сама она какая из себя при своем-то ремесле?! Меня бы вот еще в монастырь отвезти, в монашки уговаривать! Я бы монастырь-то уж поглядела бы! И монашек! День-деньской в черном, а петь только молитвенно! Страсть интересно! Разговору об их слышано сколь угодно, а вот монастыря не видывала. Так же и власть — я бы пошла, поглядела бы, послушала, что у нее и как! Почто это — такой же человек, как я, а властвует надо мною! А может, я тоже могу? Мне бы вот еще про радио у властей узнать!
— Какое радио?
— Вот именно, какое оно? По проводу далеко слыхать — это все ж таки понятно, все ж таки провод, проволока, а ежели безо всего слышно? Власти должны объяснить, почему слыхать-то, а не просто так, безо всяких объяснений по воздуху с народом разговаривать... И песни прямо по ветру пускать! Во все стороны!
— Ну, песни — это ладно, а вот в монастырь тебе никак нельзя — монашки тихо говорят. И не смеются!
— Я потерпела бы сколько-то... А вышла за ворота и отвела бы душеньку! Похохотала бы! В девках-то везде побывать возможно — в монастыре, у властей, а замужняя женщина куда далее своей избы? Замуж — это навсегда к месту прирасти.