Итальянская тетрадь (сборник)
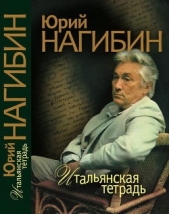
Итальянская тетрадь (сборник) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот сейчас ее пальцы сами потянулись к желтоватой слоновой кости и странно скрючились, словно хотели сомкнуться на горле музыки, которая вот-вот родится.
Слезы прихлынули к глазам. Надежда Филаретовна запрокинула голову и стояла так в позе «Молящейся» Луки Кранаха, пока слезы не отхлынули назад, лишь чуть увлажнив уголки глаз. Шаги в коридоре были как полет ласточки, и все же Надежда Филаретовна услышала их и мгновенно узнала. Она выпрямилась, упокоила голову на долгой, прямой шее и не оглянулась, когда дверь бесшумно отворилась. Словно свист рассекаемого телом птицы воздуха, и худые теплые руки обвились вокруг ее плеч.
– Мама, простите мое вторжение, но вы пели так горестно, что я... не выдержала... Вы так никогда не пели!.. Что с вами, мама, милая? У вас какое-то горе, поделитесь со мной. Я так люблю вас!..
Люблю!.. Исстрадавшееся и не понимающее себя сердце Надежды Филаретовны мгновенно откликнулось этому слову. Она повернулась к Юлии и растроганно поцеловала ее в лоб... Они были очень похожи друг на друга, но в лице Юлии все черты матери отразились в смягченном, ослабленном виде: и недостатки – подбородок Юлии был круглее, женственней, и достоинства – черные материнские глаза были у Юлии просто красивыми глазами, а не Боговыми колодцами.
– Вы здоровы, мама?
– Совершенно здорова... обычные мигрени... – Надежде Филаретовне впервые после смерти мужа захотелось опереться о чью-то руку. – Меня заботит... нет, терзает, мучает судьба Чайковского. Я места себе не нахожу!
– Вы так его любите, мама? – тихо спросила Юлия.
Надежда Филаретовна сжала тонкие губы, но ответила мягко, терпеливо:
– Это не та любовь, о какой ты думаешь. Ту любовь я изжила до конца с твоим отцом. – И, говоря так, она была искренна. – Я боготворю Чайковского, преклоняюсь перед ним и жалею его. В той, другой любви надо видеть человека, быть с ним, – мне не нужно видеть Чайковского, мне надо лишь знать, что ему хорошо, не страшно, что будет его музыка, дающая мне ни с чем не сравнимое наслаждение. Ему плохо сейчас, я это знаю... сердцем знаю.
– Он вам писал... что ему плохо? – осторожно спросила Юлия.
– Нет. Последнее письмо пришло две недели назад. Я спрашивала его о Четвертой симфонии, о нашей симфонии... – Голос ее пресекся.
Юлия взяла ее руку и поцеловала. Она с печалью приметила, что нежная, тонкая кожа матери начала грубеть... Бедная, бедная мама!..
Надежда Филаретовна овладела собой, лишь голос чуть напрягался обузданным волнением.
– Это письмо – самое удивительное и проникновенное из всего написанного о музыке. Я дам тебе прочесть. Оно все о музыке. Ни слова о себе, о своих невзгодах. Удивительная, необыкновенная скромность! – Темные глаза ее сверкнули. – Это даже неделикатно в отношении такого друга, как я. Он должен сделать свою боль моей болью, свою муку моей мукой, свою беду моей бедой...
– Но может быть, вы заблуждаетесь, мама, и ему вовсе не так плохо?
– Я не ошибаюсь, – почти гневно произнесла Надежда Филаретовна. – Я знаю все, что происходит с ним, с такой же точностью, как если б это было со мной.
– Мама, я хотела просить у вас прощения за один наш разговор... Я была не права. Я дурно думала о господине Чайковском... Наверное, я ревновала вас к нему. Простите, мама. Он достойный, высокопорядочный человек...
Некоторое время назад Чайковский попросил в письме разрешения посвятить Надежде Филаретовне Четвертую симфонию. Они с Юлией вместе читали это письмо, держа его за уголки. «Он посвящает мне Четвертую симфонию!» – вскричала Надежда Филаретовна. «Он просит у вас взаймы, мама!» – холодно заметила дочь, успевшая дочитать письмо до конца. «Я впервые удостаиваюсь такой чести!» – «Почему, у вас многие просили взаймы». – «Я говорю о симфонии». – «А я думала о деньгах». – «Вы очень непонятливы, дочь моя. Господин Чайковский оказывает мне величайшее доверие своей пустяковой просьбой и величайшую честь посвящением музыки. А теперь оставьте меня!»
Надежда Филаретовна дословно вспомнила ничтожный разговор, настолько далекий от тех горних высей, где душа ее пребывала возле души Чайковского, что не мог ни обидеть, ни задеть ее. Но задели ее слова Юлии: «достойный, высокопорядочный человек». И это о Чайковском!..
– Вы снова ничего не поняли в господине Чайковском, дочь моя! – надменно сказала фон Мекк. – Все эти жалкие слова хороши для обывателей. Господина Чайковского нельзя мерить обычной меркой, он – гений!.. – И, на миг обратив к дочери сверкающую тьму прекрасных, почти невидящих глаз, вышла из комнаты...
...Поразительно, что даже Юлия не понимала главного, Юлия, близкая ей всею кровью. И рядом с досадой в Надежде Филаретовне вновь заговорило тайное торжество ее безмерного открытия. Никто не понимал и не понимает Чайковского, даже преданный ему Николай Рубинштейн. Это она, Надежда Филаретовна фон Мекк, осмелилась назвать Чайковского великим. Это она открыла в нем гений. В скромном профессоре Московской консерватории, пишущем музыкальные сочинения, она признала гения, подобного Баху, Моцарту, Бетховену. И тут не было ни каприза, ни оригинальничания богатой меценатки, позволяющей себе в необузданном своенравии казнить и миловать, возвышать и развенчивать, ничего, кроме правды безошибочного слуха, музыкального и душевного. Надежда Филаретовна твердо знала, что рано или поздно, но наверняка при жизни Чайковского ждет мировое признание, он станет знаменит, как ни один русский композитор, его слава не уступит славе Моцарта. Это было для нее настолько очевидным, что она больше дивилась глухоте окружающих, нежели гордилась собственной проницательностью. Но она никому не позволяла догадаться о странном своем торжестве. Об этом ведал лишь дух Карла Федоровича фон Мекка. Не веря в Бога, Надежда Филаретовна верила в бессмертие души. Чайковский был ее выигрышем, тем великим выигрышем, каким для молодого, страстного, легко бледнеющего инженера фон Мекка была Курско-Киевская железная дорога, принесшая ему первый миллион. Тогда этот желторотый птенец оказался прозорливее, находчивее, умнее, решительнее и талантливее старых матерых волков и взял Великий приз. Сейчас барынька со странностями, какой считали ее в свете, восторженная любительница музыки, прозрела то, что не распознали ни знаменитые братья Рубинштейны, ни всезнайка Ларош, ни сам Стасов, ни проницательный Балакирев, ни музыкальный генерал Кюи. Она взяла реванш у Карла Федоровича за то чувство превосходства, которым он сам, возможно того не желая, давил на нее всю совместную жизнь. Он был всем, она – ничем. Перед мощью его практических достижений все остальное обесценивалось, становилось игрой, заполнением времени, «своим мирком» – этим жалким прибежищем слабых, не состоявшихся в творчестве или действенной жизни душ. И вообще-то нет ничего неблагодарнее и бесплоднее изнурительного труда любительщины. Расход душевной энергии не дает почти никакой отдачи. Меценат выглядит куда лучше, хотя и в этой роли есть что-то ущербное. Впрочем, история знает примеры, когда меценат становился чуть ли не вровень с тем, кому покровительствовал. Но без ложной скромности можно сказать, что немногие явили такую проницательность, как Надежда Филаретовна, ибо куда легче открыть и возвысить безвестность, нежели человека с уже испорченной репутацией. Не надо вспоминать даже о шумном и в чем-то справедливом провале опер Чайковского – его симфоническим, а равно и камерным произведениям выпало куда больше брани, издевательств, насмешек, нежели похвал. «Маленьким», «жалким» печатно называл Чайковского друг его юности Ларош, и Петр Ильич даже не обижался. Конечно, его творения играет Николай Рубинштейн, и это уже кое-что. Но ведь Рубинштейн отверг посвященный ему Первый фортепианный концерт, лучшее произведение Чайковского. Стало быть, Рубинштейн не понял истинной ценности столь доверчиво поднесенного ему дара. И то, что Чайковский так готовно, так страдальчески-радостно откликнулся ей, подтверждает, что он смертельно устал от непонимания, что знает о своем праве быть понятым, «открытым». Они вдвоем одолели разделявшее их расстояние. Все люди бесконечно далеки друг от друга, но кто измерит пространства и бездны между непризнанным нищим консерваторским профессором и вдовой миллионера? С быстротой мысли, с мгновенностью страсти оказались они рядом, душа приникла к душе, но о встречах вживе решили – этого никогда не будет.

























