Итальянская тетрадь (сборник)
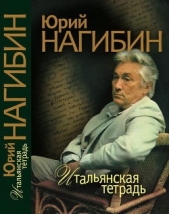
Итальянская тетрадь (сборник) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Подкину Сергеичу пяток „лебедей“ сверх последнего уговора, пущай нынче же добьется мне встречи с барыней», – решил Жгутов, снимая со щеки липучую, нежную паутинку. И будто отпустило в груди. Ведь когда решаешься на трату, все становится простым и доступным.
Жгутов вернулся во двор. На верхушке старой липы покрикивала резким, стеклянным голосом все еще не отбывшая в теплые края голубая цапля, прилетавшая, как говорили, каждую весну на это самое дерево. Жгутов опасливо обошел липу, чтоб цапля не нагадила на голову. Противная птица, если что не по ней, брызжет сверху жидким и клейким пометом, потом его не отмыть, не отскоблить. Задержавшееся летнее солнце перевернуло все в природе. Вторично зацвели вишневые деревья в глубине двора, и сирень, похоже, собралась наново распуститься, в траве выжелтились и высинились ранние летние цветочки, а голуби разворковались с такой грубой страстью, что хоть уши затыкай. Беспорядок охватил мироздание, и Жгутова это раздражало, как всякое нарушение правил. А что Вседержитель думает? Установил законы, так уж следи, чтоб они соблюдались!..
Сделав указание Богу, Жгутов направился к флигельку, где управляющий жил во время своих наездов в Москву. Семья его оставалась на Украине, поблизости от главных владений фон Мекк. Василий Сергеевич питался в людской, хотя ему полагался господский стол. Происходя из городских мещан, он имел пристрастие к простой русской пище: грибным щам с кашей и картофельной запеканке... Готовила же здешняя кухарка, мать письмоносца Ванька, отменно. Потому и сам Жгутов столовался в людской вопреки всем уговорам управляющего. Но до обеда было еще далеко, и Жгутов задумался, где искать Василия Сергеевича, как вдруг его рослая, представительная фигура возникла у каретного сарая. Управляющий не выходил оттуда и через двор не шествовал, иначе бы Жгутов увидел его раньше. Многих изумляла чудодейственная способность этого крупного, приметно-нарядного человека появляться по-воробьиному – из воздуха.
На управляющем был темный сюртук аглицкого сукна и такие же брюки, ниспадающие на подъем черных кожаных сапожков, однобортный жилет с обтяжными пуговицами, рубашка тончайшего полотна и черный атласный галстук. Прямо-таки барин московский! Увидев Жгутова, он заулыбался своим плотным, чуть продолговатым, гладко выбритым лицом с колбасками густых каштановых бакенбард и двинулся навстречу купцу, чуть разведя пухлые, с холеными кистями руки.
– Утро доброе, почтеннейший Иван Прокофьевич! – радостно улыбаясь, еще издали произнес управляющий.
В его открытой улыбке и радушном жесте не было ни малейшей фальши. Он действительно от всей своей корыстной, но вовсе не злой души почитал Ивана Прокофьевича. Управляющий смотрел на кряжистую, куцую, нелепую фигуру гостя, облаченную в длинный, до щиколоток, халат кафтанного покроя, на ситцевый шейный платок, потемневший от пота, на высокий черный картуз, венчавший глубоко ушедшую в плечи, большую, как котел, голову, и восхищение все усиливалось в нем, распирая грудь. Господи, думал Василий Сергеевич, так одевались разве что целовальники во дни моей юности! Если перевести на деньги все, что на нем есть, это не составит стоимости моих сшитых на заказ сапог. А дома он вовсе в пестрядинной рубахе навыпуск да полосатых штанах щеголяет, как московский мастеровой. А чего я перед ним стою во всем моем наружном великолепии? Он меня вчетверо сложит и в карман сунет. Давно уже в сотнях тысяч ходит, к миллиону подбирается. А тут хитришь, ловчишь, крутишься как белка в колесе, из себя выворачиваешься, а того не скопишь, чтобы какое ни на есть дельце собственное завесть! И вроде бы Господь ни умом, ни памятью, ни внешностью не обидел, верный нюх на людей дал, а поди ж ты!.. Вот что значит с нуля начинать. Покойный родитель хорошо свою линию вел, а напоследок разорился и семейство нищим оставил. А жгутовский батька, даром что так крепостным и помер, всем четверым сыновьям по капиталу завещал, вот и пошли они крутить. Конечно, Иван Прокофьевич против братьев куда способнее, оборотистее, он давно их обставил, хотя один из всех не променял на город деревенское житье. Так и обитается в отцовских хоромах с земляным полом, духотой, вонью и тараканами. А у самого три имения отличнейших, и в одном – настоящий барский дом с колоннами. Но он не спешит переезжать туда со своим немалым семейством. А может, потому и взошел Жгутов так высоко, что не соблазнился ни жильем роскошным, ни одеждой модной, ни тонкими винами, ни прочей «тревогой мирской суеты», как поет барыня Надежда Филаретовна чудеснейший романс недавно открытого ею московского композитора Чайковского.
Жгутов подошел к управляющему, снял картуз, сунул его под мышку, достал из кармана допотопного кафтана фуляр и вытер лысеющее темя в слабых русых волосках. Спрятал платок, надел картуз, оставив на лакированном козырьке дымный, тающий следок своих пальцев. Потом посунул широкоскульное, смугловатое, пористое лицо к уху управляющего и сказал несколько слов хрипатым, непрокашлянным голосом.
Управляющий всплеснул холеными, мягкими руками, которые каждый день вымачивал в уксусе, чтобы сохранить благородную белизну:
– Господи, Иван Прокофьевич, благодетель! Пойду, конечно, пойду, только, поверьте, без пользы мое хождение будет. Мы ведь не набиваем цену, поверьте, господин Жгутов! А мне ваше доверие всего важнее. Чай, смею надеяться, не в последний раз...
– Ладно, – перебил Жгутов, – в завтрева нечего заглядывать. Дай с нонешним днем рассчитаться. Она ведь ума-то не решилась. Объясни ей, по человечеству, мол, не может покупатель дольше ждать, дела у него стоят, хозяйство брошенное, семья там, детишки плачут.
– Все, все уже говорил! На другой день, как они из Италии возвернулись. И намедни опять речь завел. На все один ответ: не до лесу мне сейчас.
– Ступай, – коротко, не повышая голоса, сказал Жгутов. – Авось Господь милостив.
Василий Сергеевич тяжело вздохнул. Он держался за место управляющего, боялся прогневить барыню, но понимал Ивана Прокофьевича, и себя самого понимал: другого такого шанса у него не будет. У Прокофьевича, может, и будет, даже наверняка будет. Ну, пусть малость похуже, он-то свое все равно возьмет, а вот ему, Василию Сергеевичу, едва ли жизнь такой подарок вторично подкинет. Хочешь не хочешь, а надо идти...
Управляющий на своем веку сменил не одно место. Нигде не жилось ему лучше и нигде не жилось труднее, чем у фон Мекков. И жалованье, и содержание были вне сравнения, к тому же проницательное доверие хозяйки как бы признавало молчаливо ту скромную дань, которую взимал с доходов имения управляющий в свою пользу. Это ее устраивало, и Василий Сергеевич знал, что, пока не перейдет черты, может быть спокоен. А душевный покой он ценил почти так же, как деньги. Собственно говоря, он и деньги ценил лишь потому, что они лучше всего другого обеспечивали душевный покой. Но у фон Мекк было множество мелких причуд, досаждавших услужающим ей людям сильнее иных крупных несправедливостей. Она требовала не только от лакеев и горничных, но даже от мажордома и самого управляющего бесшумной поступи. Боже упаси, чтобы твои шаги прозвучали не то что громко, а хоть сколь-нибудь слышимо. Правда, и лестницы, и коридоры, и все комнаты, кроме зала, были устланы восточными коврами и ковровыми дорожками, глушившими шаг, но ведь подметка может скрипнуть, и голенище хлюпнуть воздухом, да и оступиться легко с ковра на паркет или на дубовые ступени лестницы. А слух у Надежды Филаретовны был острейший. Она слышала малейший шум сквозь стены и двери, и у нее тут же каменела маленькая нижняя челюсть. И тогда к ней лучше не подступаться ни с докладом, ни с просьбой, ни с важной вестью. Особенно бесил ее звук захлопываемой двери. Надо было так отворять и закрывать дверь, чтобы и с комариный писк не нашуметь. Убирать у нее в комнатах, по словам лакеев, было горше всякой муки. От таких напастей Василий Сергеевич был избавлен своей должностью, да и не состоял он безотлучно при особе Надежды Филаретовны, все больше находясь в разъездах, но многие запреты распространялись и на него. Громко не дышать, не сопеть носом, не кашлять, не отхаркиваться, не вещать чревом, не пахнуть щами, луком, печеным тестом, постным маслом, пивом, не говоря уж о спиртных напитках, табаком и хлевом – под этим подразумевалась всякая нечистота, невесть откуда взявшаяся, которую мгновенно унюхивала своим тонким носом Надежда Филаретовна. Прислуживающие ей люди то и дело полоскали рот, жевали освежающие пастилки или травки, опрыскивались одеколоном, ежемесячно отпускаемым кастеляншей. Как будто мелочь, пустяк, да и что значит для вчерашних крепостных, знавших и арапник, и розги, и зуботычины, подобная чепуха, а вот люди не держались подолгу у Надежды Филаретовны, хотя сама она редко кого прогоняла, разве что за тягчайшие провинности, вроде воровства, соблазнения горничных или пьяного дебоша. Просто не выдерживали слабые нервы вчерашних дворовых вечного напряжения, и люди поступались отличным жалованьем ради своих слабостей, привычек, даже простой беспечности, а в сущности, ради собственного лица. Но Василий Сергеевич не собирался поступаться своим положением и жалованьем, он-то не на орешки играл, и беспрекословно подчинялся железной дисциплине.

























