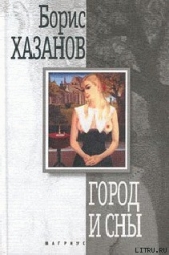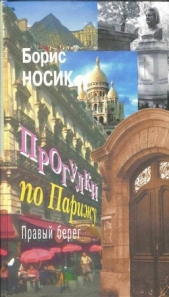Дорога долгая легка (сборник)

Дорога долгая легка (сборник) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Не пускать, да и только, – сказал Валерка. – А можно еще и отпиздить…
Он так выразительно постучал кулачищем по своей бычьей шее, что все невольно рассмеялись. Вот в это самое время и протопал этот маленький левачок из Ленинграда со своей, и так что-то стало Мите тошно…
– Пошли, что ли, до палатки дойдем… – сказал он. – Сухого по стакану…
На набережной, у палатки, расставив стаканы вдоль барьера, громко рассуждали местные, по обычаю нетрезвые, – коктебельские мужики. Митя с удивлением услышал, что речь идет о поэтах.
– У поэтов у их тоже. Думаешь легко… – говорил смуглый мужик с лодочной станции, бывший Валеркин хозяин. – Вон у Петровны жил поэт. Он говорит, пока книжка не выйдет, ничего тебе не заплотют. А ее другой раз по году ждут. И по два. И по три.
– Ну уж, по три.
– И по четыре. Он же говорил. За книжку, конечно, могут ему дать две тыщи.
– Большие деньги.
– Как же, большие. На три-то года. По семьдесят рублей в месяц и то не выйдет. А у их же расходы.
– Ну да, «Столичная», они же в столице.
– Конечно. Еще и с надбавкой… В два раза по-ресторанному.
Митя был растроган таким народным вниманием к трудностям литературы, растроган вторым стаканом кислого сухого вина, послеполуденным теплом и светом, ветерком с моря.
– Эва, – сказал Хрулев, тоже внимательно слушавший разговор у барьера. – Как пишет пресса, народ любит свою литературу, внимательно следит за ее успехами…
– А все же толку мало от кислятины, – сказал смуглый мужик. – Давай-ка, Васек, сгоняй в «новый» за «чернилами». Две «гнилушки» и раздавим…
– Народ-языкотворец, – сказал Хрулев. – Чудо-народ. «Чернила» – это, надо понимать, крепленое, которое руль бутылка…
– Вздрогнем, братцы, – сказал Валерка и вдруг заспешил разлить вино.
Пронзительный голос жены застиг его на половине стакана. Он допил, побежал к ней, пошел рядом с коляской, торопливо уводя жену прочь от компании, но и оттуда, издалека, доносились ее причитания:
– С утра скорей набраться. А я коляску катай, как каторжная. Нет, ты сам скажи, на хрена мне такой отдых? Завтра уеду к матери, и живи как хочешь. Бла-бла-бла со своими коблами весь день, каждый вечер нажрутся, а теперь уж и утром, совсем обнаглели… Писатели, одно слово…
– Критика снизу, – сказал Хрулев. – А в чем же, скажите, братцы, ее сила? Может, в ее слабости?
Они посмотрели вслед Валерке. Он, съежившись, шел рядом с колясочкой, огромный и покорный.
– Вот, по тому самому я и не женюсь, – сказал Хрулев.
– Успеете, – сказал Митя. – Вы еще молодой.
– Нет, Митя, я уже подстарок, мышиный жеребчик, – сказал Хрулев. – Я когда сильно чихаю, все опасаюсь, чтобы вставная челюсть не выпала… Давай-ка еще по стакану. Может, чуть-чуть отпустит. Памяти ушедшего, господа офицеры!
* * *
Холодков ждал возле столовой, пока Аркаша расправится с котлеткой. Первые полчаса Холодков обычно высиживал за столом, помогая сыну; потом, убеждаясь, что он не может ускорить процесс, выходил на улицу, садился на скамейке у столовой и смотрел на море.
Море в Коктебеле было особое. Говорили, что такого нет нигде, и в это нетрудно было поверить. Море здесь бессовестно и неуловимо меняло свою окраску по пять раз за вечер – становилось то палевым, то фиолетовым, то серебристо-зеленым, то невинно-голубым, то хмуро-серым. Однако это было еще не все. Над поверхностью воды все время дрожала то почти осязаемо плотная, то вдруг тончеющая до полной прозрачности чешуйчатая фольга. Словно морю было недостаточно его цветовых метаморфоз и ему потребна была еще и мантия из дорогостоящей, тончайшей ткани…
На скамейку присела молодая женщина с ребенком. Она дружелюбно улыбнулась Холодкову и сказала, интеллигентно усмехаясь:
– Любуемся явлением природы?
– А что, нельзя? – спросил Холодков, внимательно оглядывая мамочку.
Она была сдобная, округлая, аппетитная, чисто вымытая, почти съедобная.
– Работникам литературы это просто необходимо, – сказала она с легкостью. – Я вот по ночам любуюсь луной на своем балконе… Все дрыхнут, а я любуюсь…
– Не знал. Пел бы серенады, – сказал Холодков. – Какой по счету?
– Третий слева. Да что там, разве современный мужчина отважится влезть на балкон к даме?
– Об этом не смел и мечтать, – сказал Холодков. – Речь шла только о скромной серенаде, неспособной даже скомпрометировать…
– Способной, способной, – сказала женщина. – Чем весь корпус будить, уж лучше залезть, – закончила она невинно и закричала, перегибаясь через пляжные перила: – Андрюшка! Сейчас же отойди от воды!
Подошел Субоцкий, степенно поздоровался с Холодковым.
– Ну, чем мы теперь заняты? Чем перебиваемся?
– Сценарий просили переписать, – покривился Холодков. – Для одной виноградной республики…
– Да, да, – кивнул Субоцкий. – Ося Брик – вы знали его? – он часто это делал. Он называл это «лечить сценарий». Недурно, а?
Субоцкий поднялся и пошел к столовой. Он уже пообщался с Холодковым, теперь спешил навстречу Евстафенке. Он исправно нес светскую и литературную службу.
А Холодков размышлял о метафоре Брика. Наверное, это в ту пору считалось ужас каким остроумным и циничным, это нежное и слюнявое выражение, да еще сказанное о чем – о сценарии. О том дерьме, которое должно помочь студии пробить через инстанции, а потом и выпустить сверхдерьмовый фильм. Откуда же такая мягкость? Может, просто изменился способ выражения, и все эти циники двадцатых и тридцатых годов переходят в сферу диетпитания. Ведь даже о редактировании перевода (а книга не кино) друзья Холодкова чаще всего говорят теперь: «Сижу переваливаю говно лопатой». Все со временем становится манной кашей – и Хаксли и Во. От Генри Миллера еще шибает с непривычки под дых, но и то потому, может быть, что у нас почти нет группового секса, «чейнджа», или кероуаковских «ябиум». Вероятно, скоро и Миллер (в основе своей достаточно сентиментальный) покажется нежно-слюнявым. Впрочем, в метафоре Брика Холодкова поразила не форма даже, а эта потребность самоуважения, степень самоуважения. Если сценарий «лечат», значит, это весьма достойное занятие – и писать, и «лечить», и ставить. Может, самоуважение это появляется с возрастом. Приходит время, когда признаваться в чем-либо поздно. И страшно. Не хочется признаваться, что занят Бог знает каким дерьмом. Те, кто помоложе, все-таки чаще сознают цену тому, что они делают. Даже если они и завышают цену, то хотя бы ограничивают уровнем кинематографа (а кто почестнее – уровнем отечественного кинопроизводства). Это вовсе не значит, что они бо́льшие халтурщики, чем Брик или кто-либо из старших, нет, они могут быть даже большими профессионалами. Просто они трезво оценивают свои свершения на ниве отечественного адмасса…
– Я поел, – сказал Аркаша, выходя из столовой.
– Все поел?
– Я оставил две четвертых котлетки и одну треть макарон, – честно сказал Аркаша.
– Ладно, – сказал Холодков.
Аркаша вдруг обхватил его за шею руками, и Холодков почувствовал, что он слабеет, тает, расползается при этом прикосновении тоненьких рук.
– Понесешь, – сказал Аркаша.
– Ты ведь тяжелый, – сказал Холодков.
– Ничего, – сказал Аркаша.
– Ну ладно. Ничего так ничего, – согласился Холодков и поволок свою драгоценную ношу в коттедж.
* * *
Сапожников проснулся с чувством страха. Он понял, откуда этот страх – от звуков дождя. Значит, небо закрыто и погода снова нелетная. Он уже три дня назад перебрался в общежитие вертолетчиков и знал наверняка, что без него теперь не улетят. Но никто никуда и не собирался лететь – погода была нелетная. И Сапожников вдруг успокоился. Он лег на койку, заставил себя расслабиться: вот так нужно лежать – и день, и два, и три, тогда, может, распогодится, а пока у него вынужденный передых, который тоже должен стать частью его камчатского опыта, здесь люди сидят так неделями, и если не испытаешь это, то можешь пропустить что-то очень существенное. Сапожников валялся на койке, смотрел в потолок, перебирал в уме последние дни на Камчатке. Особенно запомнился ему остров Беринга, где с гребня Северо-Западного мыса он разглядывал лежбище котиков. Это было ошеломляюще. Еще не подойдя к берегу, едва перевалив за гору, Сапожников услышал страшное, неистовое блеянье, похожее на крики испуганной овечьей отары, только еще более упорное, отчаянное, исступленное. Это кричали котики, и вскоре они стали видны – огромное скопление черных точек на берегу и на камнях в океане. Сапожников подошел ближе, спустился с горы на дозволенное расстояние и, с трудом унимая непонятное чувство испуга, под непрестанные, исступленные крики животных стал разглядывать лежбище, приходя во все большее смятение. Сперва он разглядел «гарем» – скопление самок, посреди которого лежал изможденный, отощалый секач, измученный своей неумеренной половой деятельностью, ревниво и яростно оберегающий весь свой гарем и пресекающий всякую попытку самочки выйти из этого постылого для обеих сторон круга. Оскаленной пастью он тыкал в нарушительницу обета, гнал ее обратно в гарем, не принимая никаких отговорок (купание, охота, общение с друзьями – какие там еще могли быть отговорки у жирных самок котика). Среди секачей и самок в поразительном небрежении лежали «черненькие», их дети, трогательные новорожденные котики. Дав им жизнь, секачи и самочки словно забывали об их существовании, зачастую и сами давили их по небрежности, а потом с большим равнодушием наблюдали, как задавленных гложут голодные, обшарпанные песцы. В самой гуще гарема Сапожников увидел чайку. Приспособившись под боком у секача, она неторопливо и словно бы даже брезгливо выклевывала мозг у «черненького». Чуть поодаль, по сторонам лайды и до самой воды лежали «полусекачи» и «холостяки» помоложе, самцы, не обретшие еще гарема. Это было стадо, толпа, обиженная половой несправедливостью и половым гнетом, унылые пасынки Гименея и Эроса. Горе было самочке или «черненькому», попавшим в слишком тесную территориальную близость к этому сексуально озабоченному кодлу. Холостяки бросались на неосторожную жертву, насиловали ее в остервенении и, расползаясь, оставляли на песке полудохлое, а то и вовсе дохлое, истекающее кровью тело. И над всем алчным, жаждущим наслаждений или измученным наслаждениями, страдающим и отстрадавшим уже скопищем стоял немолчный, жалобный, исступленный крик…