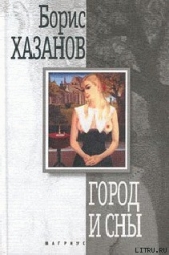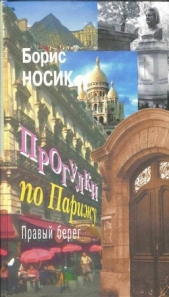Дорога долгая легка (сборник)

Дорога долгая легка (сборник) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За перилами террасы проплыла почтенная седая голова Субоцкого. Он обернулся и встретился взглядом с Мариной.
– О, так вы здесь живете, – сказал он галантно и внушительно. – Я не знал. Здесь у вас очень мило. Туберозы, розы, глицинии, и все же здесь немного тесновато…
– Меня тошнит, – сказал Глебка.
– Заткнись, – сказала Марина тихо, а потом бросила за перила Субоцкому: – Что же поделать? Я не знаменита. И даже не член союза.
– О, при чем тут это, – сказал Субоцкий полыценно. – Я познакомлю вас с директором. Милейший человек…
– Сейчас я оденусь, – сказала Марина. – О, Боже мой, что за ребенок, отчего я такая несчастная… – Она застегнула юбку и всплеснула руками. – Отчего мне столько мучений с ребенком. Вот дать тебе раз по затылку, сразу перестанешь.
Глебка ушел в туалет.
– Только над раковиной! – крикнула Марина и легко сбежала с крыльца.
– Какая на вас кофточка… – сказал Субоцкий.
– А что… Мне тоже нравится, – сказала Марина. – И всего три рубля. Никто не верит.
– Вам она идет… – сказал Субоцкий.
– Подлецу все к лицу, – сказала Марина.
Директор встретился им у конторы. Он почтительно приветствовал Субоцкого и протянул Марине руку для личного знакомства. Директор был тоже видный и высокий мужчина, довольно плотный и вполне солидный. Марина подумала, что он, наверное, бывший полковник, потому что во всех домах отдыха и творчества всегда бывшие полковники. Наверное, потому, что они обходительные люди.
Директор сказал, что даже и речи не может быть о том, чтобы ей всегда не пойти навстречу, тем более что она такой молодой и растущий поэтический кадр и тем более что сам Абрам Евсеич за нее просит.
Субоцкий сообщил Марине, что вечером они пойдут смотреть вернисаж на дому одного очень талантливого и авангардного местного художника, так что хорошо бы и ей тоже пойти. Он добавил, что у них тут все время чтения и вернисажи, так что и она могла бы что-нибудь почитать. Марина согласилась немедленно и насчет вернисажа, хотя при этом нос ее слегка заметно поморщился, потому что она сразу поняла, что это будет какой-нибудь очень провинциальный и отсталый авангард. Однако она не выразила этого сомнения, а только сообщила скромно Субоцкому, что у нее муж довольно известный художник и он также пишет многие вещи, которые полный авангард и поэтому – для себя.
– Надеюсь, и для нас тоже, – сказал Субоцкий, и Марина подумала, что он все же душка, какой у него добротный и неторопливый юмор. Жалко, конечно, что он пишет так много про войну, но ему это простительно, потому что он был на войне, не то что другие, молодые, которые тоже все время пишут про войну, но совсем не знакомы с этим тяжелым временем, когда, говорят, была карточная система, какавелла, суфле, тушенка, сгущенка и недоедание.
Марина и Субоцкий пошли прогуляться по набережной, и дорогой он рассказывал ей о долге художника, а она глядела на море, над которым дрожала легкая серебристая фольга, состоящая непонятно из чего. Она сказала, что ей иногда кажется, будто небо – это море, а море – это небо и сама она живет в этом странном перевернутом мире со своими тонкими ощущениями, доведенными до большого абсурда нежности и страдания. И тогда ему стало ясно, какой необычный из нее должен получиться поэт и как все-таки хорошо, что мы видим подрастающую молодежь, хотя бы и тридцатилетнюю с лишком, и какая большая ответственность ложится на них, на старшее, может быть, еще полу старшее поколение, за то, чтобы мерзавцы не затоптали поросль из своих чисто корыстных целей, прикрываясь идеями монопольного патриотизма. И еще Субоцкий поглядел на синюю гору с профилем поэта Волошина в своем естественном очертании и подумал о том, что жизнь хороша. И тогда он заспешил к себе, за письменный стол, потому что это была ускользающая идея, которая обладала тем большей ценностью, что была приемлема для напечатания и не содержала в данный момент никакой очевидной лжи. А Субоцкий был честный и в своем роде даже порядочный человек.
Марина одна возвращалась домой от набережной и заметила, что на нее глядит сбоку очень маленький левый критик. И ей показалось, что он думает при этом что-то очень хорошее. Может быть, он подумал, что у нее большая грудь или, скажем, печать таланта. Нет, что ни говори, здесь все-таки было очень весело, в этом благоухающем Коктебеле, и столько людей, и такие все яркие, красиво одетые, своеобразные и знаменитые, что каждый выпуск «Литгазеты» упоминает, наверное, полпляжа если уж не в рецензиях, то где-нибудь в передовой или между строк…
Возле самого дома она увидела человека с ребенком. Она заметила, что человек с ребенком тоже смотрит на нее, только непонятно, какой у него взгляд и что он думает при этом. Марина решила, что он, может быть, реакционный критик и славянофил, который завидует ее красоте и таланту. И она с горечью подумала о тех людях, которые не наслаждаются жизнью и не хотят дать другим жить свободно и счастливо, развивать искусство в недосягаемые сферы, – может быть, этот мрачный тип с ребенком был как раз из таких.
* * *
Однако человек с ребенком, чья фамилия была Холодков, думал совсем не про это. Сперва он действительно бегло отметил, какая она все-таки неумытая, неряшливая и нечесаная кобыла, эта Марина, а потом погрузился в свои бессмысленные мысли, которые все время ходили по кругу вокруг его несчастья и несчастий целого света. Он давно уже был известен здесь как человек с ребенком, потому что он много лет приезжал сюда с очаровательным мальчиком без жены (мужчины говорили, что она была очень молодая красотка, но женщины дружно отрицали это и говорили, что она просто ничего себе и к тому же себе на уме). Холодков любил ездить вдвоем с ребенком, кроме того, жена и не хотела с ним ездить. В результате наблюдений за окружающим миром он уже давно ждал от нее худшего, но дождался только совсем недавно, когда вернулся с ребенком домой из очередной поездки и обнаружил, что жена его не только живет с очень бритым киношным администратором, но даже и собирается свить себе новое гнездо, которое, как и всякая ячейка, невозможно без скрепляющего ее ребенка. А так как рожать она больше не собиралась, то для скрепления ей как раз и понадобился до той поры излишний для нее холодковский нежно любимый Аркаша (это странное и совершенно немодное имя она дала ребенку в связи с торжественным отъездом в Израиль группы художников-полуевреев. Холодков, который был стопроцентным русским евреем, предпочел бы что-нибудь более, на его взгляд, благозвучное или нейтральное). После того как холодковская жена (он еще только приучал себя к выражению «бывшая жена») принялась за устройство нового гнезда, Холодков из области своего привычного, почти что, можно сказать, беспричинного меланхолического страдания перешел в сферу острых, очень болезненных переживаний и унижений, которые завершились тремя неделями полного сумасшествия, когда бывшая жена, в осуществление своей программы, вдруг сняла комнатку в самом центре города и забрала туда мальчика, вместе с администратором, конечно. Холодков потерял всякий контакт с сыном и, прорыскав по городу три недели, нашел его наконец среди мусорных ящиков и автомобилей в старом дворе на Маросейке. Мальчик добывал кусок проволоки из мусорного ящика, и полузабытый ребенком Холодков чуть не испортил с ним отношения, попытавшись оттащить его от помойки. Тогда Холодков смирился, преодолел брезгливость и, забравшись в ящик, вытащил оттуда целый моток проволоки. На этом они помирились и даже условились с мальчиком о поездке к морю, в Коктебель. Жена неожиданно согласилась на это. Может быть, потому, что она всегда считала пребывание в писательском Коктебеле очень комильфотным, а может, и потому, что задачи устроения ячейки требовали сейчас не присутствия ребенка, а более решительных мероприятий.
И вот Холодков снова остался один на один со своим нежным и нервным мальчиком и все еще не мог поверить в это, в то, что это надолго, старался оградить это свое монопольное общение с ребенком. Именно поэтому сразу после завтрака он старался увести ребенка на прогулку, чаще всего в горы. Мальчик, очень чутко определив нетерпение и страх Холодкова, капризничал в эти дни больше обычного. Кроме того, он постоянно упоминал в разговорах «дядю Сеню», того самого бритого администратора, и Холодков с удивлением обнаружил, что мальчик отлично чувствует, как действует на него самое упоминание этого имени, и оттого упоминает его при всяком удобном случае. По этим упоминаниям можно было установить, что дядя Сеня был большой знаток жизни, науки и, главное, искусства, потому что он и сам был причастен к искусству – делал настоящее кино, большое кино, по большому счету.