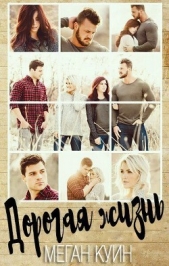Что с вами, дорогая Киш?

Что с вами, дорогая Киш? читать книгу онлайн
Рассказы Анны Йокаи — современной венгерской писательницы — привлекают богатым материалом, почерпнутым из повседневной жизни. Как не растерять человечность в суете повседневности? Как прожить в соответствии с нравственными принципами? Как добиться желанной гармонии? Эти вопросы задает себе и читателям автор.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В космосе было ужасно. Ужасно, господин профессор! Но не упустил ли я мимоходом чего-нибудь? Ах, да, колонна из искусственного мрамора, я снова обрел почву под ногами — стало быть, критический этап пройден. Отделался я тем, что шляпа с головы слетела. Дамочка, в возрасте, вручила ее мне, скорчив при этом кислую рожу.
Эта штуковина случалась со мной уже трижды, и всегда неожиданно, непредсказуемо, внезапно. Вдруг почувствую — начинается. И всегда боюсь, что рядом не окажется прочной опоры. Тогда не жди пощады — космос проглотит тебя с потрохами. А то валюсь наземь, катаюсь, визжу; вокруг народ собирается, и ведь ни одному черту не втолкуешь, что, мол, берегись, несдобровать тому, кто доживет до правды, до голой правды или правды средней категории… Ой, несладко будет тому, кого стороной обойдет закон всемассового тяготения и кому усредненное одеяло окажется не по росту, сотворить нетленное руно для каждого — кишка тонка.
Господин профессор, я строго следую Вашим предписаниям. Глотаю таблетки. Тружусь с утра до вечера. Вскапываю садовый участок. Поливаю водичкой свою ощетинившуюся плоть. Терпеливо сношу тактичные взгляды друзей. Два раза в неделю регулярно ложусь на холодную простыню из линолеума.
Господин профессор, прошу Вас, если по-другому нельзя, сделайте то, что Вы считаете возможным. Я соглашусь на любой смирительный балахон и на клейколенту из какого угодно материала… Лишь бы земля остановилась под ногами, в конце-то концов!
Господин профессор, если есть хоть малейшая надежда — попытайте невозможное. Уж больно хочется поглядеть на солнечную корону без дымчатых стекол, чтоб при свете и невооруженным глазом разобрать цветовой спектр, а еще опознать и выдержать ультрафиолетовые и инфракрасные лучи…
Господин профессор, попробуйте сделать невозможное. Не распаковывайте меня. Встаньте на цыпочки, положите мою жизнь на самую верхнюю полку правды, ибо только оттуда видны все вещи в их изначальности и целесообразности, ибо только там прекратится наконец весь этот кошмар.
У-у-у, опять завертелась. Я прощаюсь.
С неизменным почтением и доверием
д-р Эдешхалми Янош
Перевод В. Ельцова-Васильева.
© «Иностранная литература», 1984.
НОВЕЛЛА О ВЕЩАХ
Они окружают со всех сторон, спешат на выручку, подчас как щитом укрывают собой. Мои вещи переживут меня. Попытка мысленно проследить их жизнь — с момента возникновения и до самой гибели — это скорее проба мысли, фатовская игра суетного ума. Я их не знаю; они затаились в себе. И теперь с полным правом досадуют на меня уже за одно то, что я берусь оценивать их сущность, сообразуясь со своими субъективными мерками. Сам выбор вещей — итог чистейшего произвола. С головой выдающий их хозяина.
Sunt lacrimae rerum, милый мой Бабич!
Вещи тоже умеют плакать.
…сова я, полуночница, гляжу на них
и радуюсь, что есть кому всплакнуть со мною заодно.
Картина в правом углу моей рабочей комнаты
Если приклонить голову к краешку стола, свет на картину падает снизу. Вот теперь отчетливо проступает мотив страдания; при ином ракурсе, холст отсвечивает, грубая фактура ткани гасит настроение, излучаемое картиной. Автор ее — Дежё Цигань, несчастный безумец, в припадке сумасшествия прикончивший свою семью. Двор залит перламутровым свечением вечернего полумрака. Солнце уже скрылось, и от земли все выше и выше серой лавиной ползет грозная тень. Она подползает к женщине, что стоит к нам спиной, лица не видно, может, это вовсе и не женщина, а черный манекен среди ужаса. Фигура ее схвачена двумя энергичными штрихами, как литера «V», схвачена намертво, ей уже не сдвинуться с места. Рядом непокрытый стол, пустая скамья, во всем холодный, геометрически четкий порядок. На дереве ни листочка. Два куста, два тревожных желтых пятна — меты поздней осени, — согнулись, вот-вот их совсем прибьет к земле ветром. Небо изрезано глубокими шрамами. Сбоку высоченная стена без окон. Вдали дом, признаки жизни, еще что-то расплывчатое, округлое. Женщина обращена лицом именно в ту сторону, всматривается, но на пути выше уровня глаз — ограда! И оттого взгляд натыкается на доски, всегда только на них, и рикошетом обратно.
Вовек не видела ничего горше. Горше этой оцепенелой покорности перед безраздельным одиночеством. Сердце захолонуло от сострадания, мне жаль Дежё Циганя, которого уже нет в живых. Стараюсь уяснить себе этапы пути, приведшего художника к такому итогу. Ни к чему вроде бы — даже мельчайшие детали известны. И все же сама картина, которую я вижу многократно изо дня в день, предостерегает от навязчивого вывода о подобном итоге его жизни. Ведь если хорошенько всмотреться, за безутешной печалью сокрыты и долг, исполненный человеком, и самопожертвование, на которое он пошел вместо нас, обнажив гибельный тупик, бессмысленность уравнений, оканчивающихся нулем. И вот я, кажется, начинаю постигать суть катастрофического взрыва в душе Циганя, природу самозащищающегося безумия, все эти страшные шаги по черно-алому полю, заряженному отрицательно. Обреченный дух, материализовавшись в вещь, напоминает о себе, взывает: он может рассчитывать на пощаду лишь в случае, если падет на него милосердие наше и если мы осознаем урок, навеянный его горьким опытом.
А теперь обопрусь-ка на локоть и слегка поверну затекшую шею. В другом углу, на массивном приземистом шкафу, — изваянная руками Маргит Ковач «Нищенка», она отправляется в путь по сверкающей лаком коричневой глади: ее ждет не дождется горшок с пышным папоротником.
Сначала я все пробовала понадежнее пристроить ее, вечно была в волнении, в какой-то странной тревоге за нее: не упала бы, тут ли, там ли — везде опасность подстерегает. Но отчего же, отчего так? Дерево прочное, уж ее-то выдержит, залетевший в окно ветер не сдует, задеть никто не заденет. С какой бы стати ей упасть?
Потом уж сообразили. Нищенка странствует, денно и нощно на ногах, колени у нее не разгибаются, вот и бредет себе, да не одна — белый посошок в спутники избрала. Грузноватое тело, кисть руки отмечена благородством линий, рукой она касается ослабевшей ноги. Смиренный изгиб шеи. Эта женщина тоже одинока. Но она дозволяет заглянуть в свое лицо. Посох ее возвещает: я слепа. Глаза говорят: и все-таки я вижу. Ей видны иные просторы, они в ней самой. Она исполнена веры и других ободряет. Она зовет: пошли дальше! И, кто знает, наступит час, и мы вместе с нею достигнем манящей вдали зелени.
О святая надежда! И вот грусть отпустила. И уже радует глаз наивная гармония персидского изразца. Гармония тоже возможна. Несомненно, возможна.
На вычерченном эллипсе танцуют, встав на задние копытца, две козочки: розовая и голубая. Они беззаботны, самоуверенны и веселы. Они танцуют, а их окружили маленькие взъерошенные чудища, лукавые ползучие гады и огнедышащие драконы. Глазки у козочек широко раскрыты, они украдкой пугливо оглядываются. И все же они уверены в своей неуязвимости.
Хотя у розовой козочки бочок уже поранен. Касаюсь пальцем щербинки. Нет, не то. Просто материал с изъяном.
Однако же во рту сухо. Испить бы.
И вот уже приходят, парят в воздухе
утраченные вещи,
а с ними все, что утрачено в жизни.
Пью из своей детской чашки. И у нее по бокам — вмятины, впрочем, сделанные умышленно — декоративный элемент. Эта чашка — последнее, что сохранилось от когда-то огромного сервиза, который и сорок лет назад был уже неполным. Маме моей чудом удалось кое-что из него сберечь, супницу она еще помнила, а вот суповых тарелок ей уже не довелось видеть. По числу, выведенному на донышке сахарницы, — 51 мы догадывались, как много всего было в сервизе. Оставшиеся предметы мы снесли в кладовку для сохранности, но они там побились один за другим. Заварной чайничек я сама кокнула, только крышечка и осталась, с длинной позолоченной цепочкой. Мне здорово тогда влетело, и я возненавидела весь фарфор на белом свете, включая и эту чашку — прозрачную, цвета слоновой кости, с увядшим маком и цифрой 18 на наружной стороне донышка. Позже, много позже, я тихонько прокралась к ней. Тогда она уже жила сама по себе, за стеклом, запертая на ключ. Жизнь в ней еле теплилась, и я долго отогревала ее в ладонях.