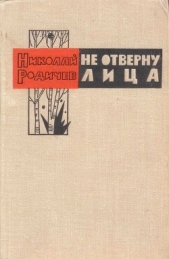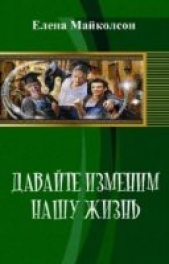Матисс (Журнальный вариант)

Матисс (Журнальный вариант) читать книгу онлайн
"Матисс" - роман, написанный на материале современной жизни (развороченный быт перестроечной и постперестроечной Москвы, подмосковных городов и поселков, а также - Кавказ, Каспий, Средняя Полоса России и т. д.) с широким охватом человеческих типов и жизненных ситуаций (бомжи, аспиранты, бизнесмены, ученые, проститутки; жители дагестанского села и слепые, работающие в сборочном цехе на телевизионном заводе города Александров; интеллектуалы и впадающие в "кретинизм" бродяги), ну а в качестве главных героев, образы которых выстраивают повествование, - два бомжа и ученый-математик.
Александр Илличевский - лауреат премии имени Юрия Казакова (2005); финалист Национальной литературной премии "Большая Книга" (2006; 2007); финалист Бунинской премии 2006 года (серебряная медаль), лауреат премии "Русский Букер" 2007 года за роман "Матисс".
Роман публиковался в журнале «Новый Мир», №№ 2-3 за 2007 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он читал у одного писателя, что повествование напоминает магическую коробочку, в которую вглядываешься для прозрения слов. И он обзавелся таким зрением. У него обреталась пепельница-розетка, напоминавшая лист подорожника: вычурная, слепленная в виде амфитеатра над сценой, полной морозного синего неба, втянувшего в себя стылое течение реки и набережной, полосчатой от огней, стремящейся, плывя, дрожа, — в отделенной от глаза слезе узнавания. Он вглядывался в эту пепельницу, когда писал, и сейчас, читая, ощутил себя в ее черной чистой воде — омуте лесной протоки: в детстве ему было удобно в этот пенал отлавливать кузнечиков, с тем чтобы наживлять по одному через щелочку — на большеротого голавля, вдруг с подсечки ведущего дрожащую лесу, внахлест летевшую пружинистой змеей с кольцевого заброса.
Впрочем, он догадывался, что детство еще не подвиг, что оно всегда без спросу вкусно и колюче накатывает в глаза и ноздри, как ломоть бородинского хлеба с крупными звездами соли и стаканом молока из бутылки с “кепкой” из тисненой фольги. Он был уверен, что роскошная бездна детства менее бесстрашна, чем смысловая разведка будущего, каким бы царством оно ни обернулось. Нет. Он обожал опрокидывание в глубину тугого всплытия из воспоминания. Он замирал, чувствуя прохладные капли, оставшиеся на пальцах, которые вынули из медного таза стебли фиалок. Он проваливался в “свечку” солнечного волейбольного мяча на каспийском пляже — и слепящее лезвие морского горизонта, взятого с кубистического шара на парапете санаторной набережной, сладостно раскалывало его хрусталик. Детство было прекрасно, но он был уверен, что Господь сотворил людей не для одного прошлого, как ни трудно и несправедливо было бы это осознавать. Однако на будущее у него не то что не было сил — оно уже минуло несостоявшейся возможностью. И что самое мрачное — он понимал свое бессилие и не мог смириться. Но, отказываясь от этого куска хлеба, он рисковал умереть от голода.
Королев все-таки сумел извернуться суррогатом — и обратился к постороннему прошлому, найдя его безболезненным и полным неизведанного смысла. Живя на Красной Пресне, он постепенно натренировал хищную пристальность, которая сметала покровы как конструктивного мусора современности, так и просто асфальта. Пристальность подымала напротив входа в зверинец полощущиеся цыганские балаганы и шестиметровые баррикады в осаде казачьих разъездов, выпрастывала из-под Большой Грузинской, из-под Горбатого моста речку Пресню вместе с ее колесными, лопочущими мельницами, кожевенными сараями, Грузинской слободой, холмами и рощей. Будучи крепче и долговечней мрамора, наблюдательные слова и эта творящая пристальность давали ему удовольствие перестроить город на свой лад, умыкнуть его.
LXV
Когда Королев тосковал, он старался глубже задумываться. Энергия рассуждения растрачивала тоску. А задумывался он почти всегда о главном — о времени. Только на время он мог положиться. Только оно могло стать скрепляющим веществом той конструкции, которая выстраивалась в этом городе для размещения его жизни. Размышление это было суровым делом.
Он пользовался различными предпосылками и отобрал из множества те, из которых выводились все остальные. Им оказался полный останов — “стоп машина”, — приключившийся с его Родиной.
Локомотив уже сорвался в пропасть, а состав страны все еще летел, ускорялся инерцией свободного падения, втуне надеясь рывком перемахнуть параболу крушения. Этот динамический пример отложенной остановки замещался видом сплющенного луча, уткнувшегося в ничто после какой-то бесчувственной, но скорой даты. Здесь, конечно, все было сложнее и требовало размыслительной метафоры большего объема, чем фраза.
Обычно приходилось начинать с неприятного — с того, что метафизическая мессианская тяга, сколь убога и кровава порой она ни шла перед историей, нынче зарыта в землю. И все, кто хотят добыть ее, — гапоны.
На этом он не задерживался, только отдавая дань связности. Все это казалось более или менее простым, а вот непросто было, что остановка времени лямкой перетягивала дыхание.
Суммарно его траекторию можно было описать оглядкой — короткой хлесткой петлей, которой его осенило: он куда-то просадил пятнадцать лет жизни; после чего его перетянуло еще, теперь затяжной: не он один просадил это время — просажено оно оказалось просто потому, что никуда и не шло.
И дело даже не в том, что оплот пуст и никакого плана, кроме воровского. Тут что-то с метафизикой пространства. Мало того что оно распалось и опустело, оно к тому же переместилось внутрь. Снаружи Родины теперь нет. Зато она есть внутри. И давит.
Вместо пространства воцарилась бездомность. Можно сколько угодно за плечами собрать домов, но все они будут пришлыми, как раковины, подобранные отшельником. Здесь дело не в беззащитности, что-то гораздо большее, чем оставленность, посетило окрестность. “Время отхлынуло в другое русло? — озадачивался Королев, и дальше его несло: — В самом деле, почему иудеи нам братья? И мы и они — единственные нации, чья ментальность насажена на тягу — вектор стремления к исходу: из рабства, из-под крепостничества, из-под власти чиновников — в мировую революцию, перестройку, куда угодно; взять Чехова — как прекрасен умный труд, какие сады будут цвести, не важно — только бы становилось лучше, только бы дом построить, пусть незримый, пусть ради этого полстраны удобрит буераки, не важно, — высокое дороже, мы не можем жить в сытой остановке, мы — не голландец: он не мечтает о том, чтобы завтра перестать быть голландским голландцем, он не мечтает вообще, ни о каком апокалипсисе речи быть не может, спасибо, его пиво и сыр — лучшие”.
Королев, раскочегарившись мыслью, носился по городу — аллеями ВДНХ, по проспекту Мира, взбирался на Рижскую эстакаду — с нее бежал на Сущевку, Бутырку, Пресню, взлетал на Ваганьковский мост и оттуда зависал над вагонным парком Белорусского вокзала — над бесчисленными пучками рельсов, составов, хозяйственно-погрузочных платформ, россыпью оранжевых жилеток обходчиков. Едва ли не мистическое ощущение вызывал у него этот вид путевого скопления: вся страна в продолжении рельс, грохоча, раскрывалась здесь перед ним, и он содрогался от веяния простора…