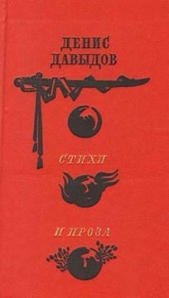Малая проза

Малая проза читать книгу онлайн
Роберт Музиль - австрийский писатель, драматург, театральный критик. Тонкая психологическая проза, неповторимый стиль, специфическая атмосфера - все это читатель найдет на страницах произведений Роберта Музиля. В издание вошел цикл новелл "Три женщины", автобиографический роман "Душевные смуты воспитанник Терлеса" и "Наброски завещаний".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тёрлес повернулся к Байнебергу. Но тот лишь ухмыльнулся. Говоря, он потягивал длинный чубук, он сидел, по-восточному скрестив ноги, и из-за своих оттопыренных ушей походил при этом неверном освещении на какого-то странного идола.
— По мне, делайте что хотите. Меня не волнуют ни эти деньги, ни справедливость. В Индии его бы посадили на бамбуковый кол. Это было бы по крайней мере удовольствие. Он дурак и трус, жалеть его нечего, и, право, мне всю жизнь было в высшей степени безразлично, что случится с такими людьми. Сами они ничтожны, а что еще может произойти с их душой, мы не знаем. Да благословит Аллах ваш приговор!
Тёрлес ничего не ответил. После того как Райтинг ему возразил, а Байнеберг предоставил им решать дело без него, он выдохся. Он был не в силах больше сопротивляться; он чувствовал, что у него уже нет никакого желания остановить то неопределенное, надвигавшееся.
Поэтому было принято предложение, которое внес теперь Райтинг. Решили взять Базини пока под надзор, в известной мере под опеку, чтобы тем самым предоставить ему возможность выпутаться. Отныне его доходы и расходы подлежат строгой проверке, а его отношения с остальными будут зависеть от разрешения троих.
С виду это решение было очень корректным и доброжелательным, «образцово скучным», как не сказал на этот раз Райтинг. Ведь каждый, не признаваясь в том себе чувствовал, что сейчас устанавливается какое-то промежуточное положение. Райтинг не отказался бы от продолжения этой истории, ибо она доставляла ему удовольствие, но, с другой стороны, ему еще не было ясно, какой дальнейший оборот дать ей. А Тёрлес от одной мысли, что теперь ему придется ежедневно иметь дело с Базини, чувствовал себя парализованным.
Когда он недавно произнес слово «вор», ему на миг стало легче. Он как бы выставлял наружу, отодвигал от себя то, что кипело внутри у него.
Но вопросов, которые сразу же затем возникли опять, это простое слово решить не могло. Теперь, когда от них уже не нужно было уклоняться, они стали яснее.
Тёрлес переводил взгляд от Райтинга к Байнебергу, закрывал глаза, повторял про себя принятое решение, опять поднимал глаза… Он ведь и сам не знал уже, это только его фантазия, которая ложится на все огромным кривым стеклом, или это правда и все действительно так жутко, как ему увиделось. И только Байнеберг с Райтингом ничего не знали об этих вопросах? Хотя они-то как раз с самого начала вполне освоились в этом мире, который ему сейчас вдруг впервые показался таким чужим?
Тёрлес боялся их. Но боялся лишь так, как боятся великана, зная, что он слеп и глуп…
Но одно не подлежало сомнению: он был сейчас гораздо дальше, чем еще четверть часа назад. Возможность поворота назад миновала. Появилось тихое любопытство — что же будет, после того как он против своей воли остался. Все, что шевелилось в нем, скрывала еще темнота, но его уже тянуло вглядеться в лики этой темени, которой другие не замечали. Легкий озноб примешивался к этой тяге. Словно теперь над его жизнью всегда будет висеть серое, пасмурное небо — с большими тучами, огромными, меняющимися фигурами и все новым вопросом: это чудовища? это только тучи?
И вопрос это лишь для него! Как что-то тайное, чуждое Другим, запретное…
Так в первый раз начал Базини приближаться к тому значению, которое ему суждено было поздне приобрести в жизни Тёрлеса.
На следующий день Базини был взят под опеку.
Не без некоторой торжественности. Воспользовались утренним часом, пропустив урок гимнастики, проходивший на большой лужайке в парке.
Райтинг произнес своего рода речь. Не то чтобы краткую. Он указал Базини на то, что тот проиграл свою жизнь, что вообще-то его следовало бы выдать и лишь по особой милости его пока избавляют от позора карательного отчисления.
Затем ему были сообщены особые условия. Контроль над их исполнением взял на себя Райтинг.
Базини был во время всей этой процедуры очень бледен, но не сказал ни одного слова, и по лицу его нельзя было определить, что происходило у него в душе.
Тёрлесу эта сцена казалась то очень безвкусной, то очень значительной.
Байнеберг обращал больше внимания на Райтинга, чем на Базини.
В течение следующих дней о происшествии, казалось, почти забыли. Райтинга, кроме как на уроках и во время еды, не было видно. Байнеберг был молчаливее чем когда-либо, а Тёрлес все отгонял мысли об этой истории.
Базини вращался среди товарищей как ни в чем не бывало.
Он был чуть выше Тёрлеса ростом, но сложения очень хилого, у него были мягкие, медлительные движения и женственные черты лица. Смышленостью он не отличался, в фехтовании и гимнастике был одним из последних, но была в нем какая-то милая, кокетливая приятность.
К Божене он в свое время захаживал, только чтобы играть мужчину. Настоящее вожделение при его отсталости в развитии было ему, конечно, чуждо.
Он просто считал своей непременной обязанностью, необходимой данью порядку источать аромат галантного опыта. Прекрасней всего был для него тот миг, когда он уходил от Божены и все было позади, ибо ничего, кроме наличия воспоминаний, ему не было нужно.
Бывало, он и лгал из тщеславия. Так, после каникул он всегда возвращался с сувенирами маленьких приключений — лентами, локонами, записочками. Но когда он однажды привез в своем чемодане подвязку, милую, маленькую, душистую, небесной голубизны, а потом выяснилось, что принадлежала она не кому иному, как его собственной двенадцатилетней сестре, над ним немало глумились из-за этого смешного бахвальства.
Нравственная неполноценность, в нем обнаруживавшаяся, и его глупость были одного происхождения. Он не способен был сопротивляться никакому наитию, и последствия этого всегда поражали его. В этом он походил на тех женщин с миленькими кудряшками на лбу, что понемногу подсыпают яд в пищу супругу, а потом в ужасе удивляются незнакомым, суровым словам прокурора и смертному приговору.
Тёрлес избегал его. Благодаря этому постепенно прошел и тот глубинный испуг, который как бы под корнями его мыслей охватил и потряс его в первый миг. Вокруг Тёрлеса все снова становилось на свои места; изумление проходило и делалось с каждым днем нереальнее, как следы сна, которые не могут утвердиться в действительном, осязаемом, освещенном солнцем мире.
Чтобы еще сильнее закрепить это состояние, он сообщил обо всем в письме родителям. Только о том, что сам при этом почувствовал, он умолчал.
Он снова пришел к той точке зрения, что лучше всего при следующем случае добиться удаления Базини из училища. Он не мог представить себе, чтобы его родители думали об этом иначе. Он ждал от них строгого, брезгливого осуждения Базини, ждал, что они, так сказать, смахнут его кончиками пальцев, как нечистое насекомое, которое нельзя терпеть вблизи их сына.
Ничего подобного не оказалось в письме, полученном им в ответ. Родители добросовестно потрудились и как люди разумные взвесили все обстоятельства, насколько таковые можно было представить себе по неполным, отрывочным сведениям того торопливого письма. Из их ответа следовало, что они предпочитали судить как можно снисходительнее и сдержаннее, тем более что в описании сына не исключены были всякие преувеличения, вызванные юношеским негодованием. Поэтому они одобряли решение дать Базини возможность исправиться и полагали, что из-за одного небольшого проступка нельзя человеку сразу ломать судьбу. Тем более что — и это они, понятно, подчеркивали особенно — речь тут идет не о сложившихся людях, а пока еще неустойчивых, развивающихся характерах. На всякий случай с Базини надо, конечно, держаться сурово и строго, но проявлять доброжелательность и стараться исправить его.
Это они подкрепляли целым рядом примеров, хорошо известных Тёрлесу. Ведь он прекрасно помнил, как в первые годы ученья, когда дирекция еще любила применять драконовские методы и строго ограничивала карманные деньги, многие часто не удерживались и выпрашивали у более счастливых из тех прожорливых малышей, которыми все они были, часть их бутерброда с ветчиной или еще что-нибудь. Сам он тоже не всегда бывал свободен от этого, хотя и прятал свой стыд, ругая злобную, пакостную дирекцию. И не только возрасту, но и строгодобрым родительским увещаниям был он обязан тем, что постепенно научился с гордостью преодолевать подобные слабости.