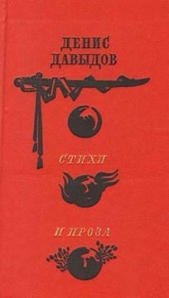Малая проза

Малая проза читать книгу онлайн
Роберт Музиль - австрийский писатель, драматург, театральный критик. Тонкая психологическая проза, неповторимый стиль, специфическая атмосфера - все это читатель найдет на страницах произведений Роберта Музиля. В издание вошел цикл новелл "Три женщины", автобиографический роман "Душевные смуты воспитанник Терлеса" и "Наброски завещаний".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Через некоторое время успокоился и он. Я продолжал улыбаться. У меня было такое чувство, что одной этой улыбкой я могу превратить его в вора, даже если он им еще не был. «А исправить ошибку, — думал я, — всегда можно будет и позже».
Еще через несколько минут, в течение которых он то и дело украдкой поглядывал на меня, он вдруг побледнел. С лицом его произошла странная перемена. Прежняя прямо-таки невинная миловидность исчезла, казалось, вместе с румянцем. Лицо стало зеленоватым, мучнистым, разбухшим. Раньше я видел такое только один-единственный раз — когда случайно проходил мимо по улице, при задержании убийцы. Тот тоже расхаживал среди других людей, и по виду его ни о чем нельзя было догадаться. Но когда полицейский положил руку ему на плечо, он вдруг стал другим человеком. Его лицо изменилось, и глаза его, испуганные, ищущие выхода, принадлежали уже физиономии висельника.
Об этом напомнил мне изменившийся вид Базини. Теперь я знал все и только ждал…
Так оно и вышло. Я ничего больше не говорил, и Базини, измученный молчанием, стал плакать и попросил у меня пощады. Он же взял деньги только от нужды, не догадайся я об этом, он скоро вернул бы их, и никто ничего не узнал бы. Не надо говорить, что он украл, он ведь просто тайком взял взаймы… Он не мог продолжать из-за слез.
А потом он снова начал умолять меня. Он готов повиноваться мне, делать все, что я ни пожелаю, только бы я никому об этом не рассказывал. За это он буквально предлагал мне себя в рабы, и смесь хитрости и жадного страха, трепетавшая при этом в его глазах, была отвратительна. Я коротко обещал ему подумать, как с ним поступить, но сказал, что это прежде всего дело Байнеберга. Как нам, по-вашему, быть с ним?
Рассказ Райтинга Тёрлес слушал молча, с закрытыми глазами. Время от времени озноб пробирал его до кончиков пальцев, и в голове его мысли бурно и беспорядочно всплывали рывками, как пузыри в кипящей воде. Говорят, что так бывает с тем, кто в первый раз видит женщину, которой суждено завлечь его в разрушительную страсть… Утверждают, что есть такое мгновение, когда сгибаешься, собираешься с силами, затаиваешь дыхание, мгновение внешнего безмолвия над напряженнейшей внутренней связью между двумя людьми. Никак нельзя сказать, что происходит в это мгновение. Оно как бы тень, которую страсть отбрасывает перед собой. Органическая тень; ослабление всех прежних напряжений и в то же время состояние внезапной, новой связанности, в котором уже содержится все будущее; инкубация, сведенная к остроте укола иголкой… А с другой стороны оно — ничто, глухое, неопределенное чувство, слабость, страх…
Так чувствовал это Тёрлес. То, что рассказал Райтинг о себе и Базини, казалось ему, если он спрашивал себя об этом, незначительным. Легкомысленный проступок и трусливая подлость со стороны Базини, за которыми теперь наверняка последует какой-нибудь жестокий каприз Райтинга. Но, с другой стороны, он, словно в тоскливом предчувствии, ощущал, что события приняли теперь для него вполне личный оборот, и было в этом происшествии что-то, что угрожало ему как острым ножом.
Он представил себе Базини у Божены и огляделся в клетушке. Стены ее, казалось, грозили ему, падали на него, словно бы кровавыми руками тянулись к нему, револьвер двигался на своем месте туда-сюда…
В смутном одиночестве его мечтаний впервые что-то упало, как камень; это было вот здесь; тут ничего нельзя было поделать; это была действительность. Вчера Базини был еще совершенно таким же, как он сам; открылся люк, и Базини упал. В точности так же, как это описал Райтинг: внезапная перемена, и человек — другой…
И снова это как-то связалось с Боженой. Его мысли сотворили кощунство. Гнилой, сладкий запах, которым от них повеяло, смутил его. И это глубокое унижение, этот отказ от себя, эта покрытость тяжелыми, бледными, ядовитыми листьями стыда, которую он видел в своих мечтах как бесплотное далекое отражение в зеркале, — все это вдруг случилось с Базини.
Есть, значит, что-то, с чем действительно надо считаться, чего нужно остерегаться, что может вдруг выпрыгнуть из молчаливых зеркал мыслей?..
Но тогда возможно и все другое. Тогда возможны Райтинг и Байнеберг. Возможна эта клетушка… Тогда возможно также, что из этого светлого, дневного мира, который он только и знал до сих пор, есть какая-то дверь в другой, глухой, бушующий, страстный, разрушительный мир. Что между теми людьми, чья жизнь размеренно, как в прозрачном и прочном здании из стекла и железа, протекает между конторой и семьей, и другими людьми, опустившимися, окровавленными, развратно-грязными, блуждающими в лабиринтах, полных ревущих голосов, не только существует какой-то переход, но их границы тайно и тесно соприкасаются, так что их можно в любое мгновение переступить…
И вопрос остается только один: как это совершается? Что происходит в такое мгновение? Что с криком устремляется ввысь и что вдруг угасает?..
Таковы были вопросы, встававшие перед Тёрлесом. Они вставали неясно, с сомкнутыми губами, окутанные каким-то глухим, неопределенным чувством — то ли слабости, то ли страха.
Но многие их слова, отрывочно и порознь, звучали, словно издалека, в Тёрлесе и наполняли его робким ожиданием.
В это мгновение раздался вопрос Райтинга.
Тёрлес сразу заговорил. Он подчинился при этом какому-то внезапному порыву, какому-то смущению. Ему казалось, что предстоит что-то решающее, и он испугался этого надвигающегося, хотел уклониться, выиграть время. Он заговорил, но в тот же миг почувствовал, что может сказать только несущественное, что у его слов нет внутренней опоры и они вовсе не выражают действительного его мнения… Он сказал:
— Базини — вор.
И определенное, твердое звучание этого слова было так приятно ему, что он повторил его дважды.
— …Вот. А таких наказывают… везде во всем мире. Надо заявить об этом, удалить его из училища! Пусть исправляется на стороне, среди нас ему уже не место!
Но Райтинг сказал с выражением неприятного удивления:
— Нет, зачем сразу доводить все это до крайности?
— Зачем? Неужели, по-твоему, это не само собой разумеется?
— Отнюдь нет. Ты держишься так, словно вот-вот хлынет серный дождь, чтобы всех нас уничтожить, если мы теперь оставим Базини в своей среде. А дело-то не такое уж страшное.
— Как можешь ты так говорить? Значит, с человеком, который крал, который потом предложил тебе себя в служанки, в рабы, ты готов по-прежнему вместе сидеть, вместе есть, вместе спать?! Я этого не понимаю. Нас ведь потому и воспитывают совместно, что мы все принадлежим к одному и тому же обществу. Разве тебе будет все равно, если тебе придется когда-нибудь служить в одном с ним полку или в одном министерстве, если он будет вращаться в кругу тех же семей, что и ты… может быть, ухаживать за твоей собственной сестрой?..
— Ну, ты же преувеличиваешь! — засмеялся Райтинг. — Как будто мы вступили в какое-то братство на всю жизнь! Что ж, по-твоему, мы всегда будем носить на себе печать «Из интерната в В. Имеем особые привилегии и обязательства»? Ведь позднее каждый из нас пойдет своим путем, и каждый станет тем, кем он вправе стать, ибо на свете существует не одно общество. Я хочу сказать, что нечего нам ломать себе голову над будущим. А что касается настоящего, то я ведь не сказал, что мы должны сохранять с Базини товарищеские отношения. Как-то уж удастся соблюдать дистанцию. Базини у нас в руках, мы можем делать с ним что хотим, по мне, хоть оплевывай его два раза в день — какое тут, если он это позволит, товарищество? А если взбунтуется, мы всегда сможем его осадить… Перестань только думать, что между нами и Базини есть что-то общее, кроме того, что его подлость доставляет нам удовольствие!
Хотя Тёрлес вовсе не был уверен в своей правоте, он продолжал упорствовать:
— Слушай, Райтинг, почему ты так занят Базини?
— Разве я занят им? Вот уж не знаю. Вообще-то у меня никаких особых причин, конечно, нет. Вся эта история мне безразлична донельзя. Меня злит только, что ты преувеличиваешь. Что у тебя в голове? Какой-то идеализм, по-моему. Священная любовь к училищу или к справедливости. Ты не представляешь себе, какой веет от этого скукой и образцовостью. Или, может быть, — и Райтинг подозревающе подмигнул Тёрлесу, — у тебя есть какая-то другая причина выставить Базини, и ты просто не хочешь признаться? Какая-нибудь старая месть? Тогда скажи! Ведь если нужно, мы же действительно можем воспользоваться этим удобным случаем.