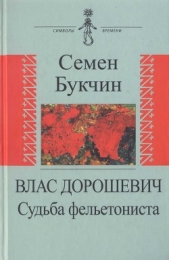Услады Божьей ради

Услады Божьей ради читать книгу онлайн
Жан Лефевр д’Ормессон (р. 1922) — великолепный французский писатель, член Французской академии, доктор философии. Классик XX века. Его произведения вошли в анналы мировой литературы. В романе «Услады Божьей ради», впервые переведенном на русский язык, автор с мягкой иронией рассказывает историю своей знаменитой аристократической семьи, об их многовековых семейных традициях, представлениях о чести и любви, столкновениях с новой реальностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Клод и Марина вернулись через четыре или пять дней, показавшихся мне вечностью. Какое облегчение! Когда они сказали мне, как-то слегка загадочно и с иронической торжественностью, что и сами не подозревали, насколько сильной оказалась их взаимная привязанность, я почти удивился, что не особенно огорчился. Что мне было неприятно, так это расставание, а главное — их секреты. При условии, что мы будем продолжать, как прежде, жить вместе, я готов был признать за отношениями между Клодом и Мариной особый статус. Все вернулось на круги своя без особых изменений. Но любовь между моим двоюродным братом и блудницей с Капри отныне стала признанным фактом. И мне чаще приходилось довольствоваться обществом моряка со Скироса.
Я вовсе не намерен рассказывать вам в деталях про любовь Клода и Марины. И о своих влюбленностях тоже. Думаю, нет нужды повторять, что я пытаюсь рассказать коллективную историю моей семьи на протяжении трех четвертей века. И чувство Клода к Марине — страсть, увлечение, каприз или нежность, назовите это как хотите, — является не больше чем небольшим эпизодом этой долгой истории. Эпизодом небольшим, но более значительным, чем может показаться с первого взгляда. Вот почему я вывел на эти страницы, наряду с Миреттой, Жан-Кристофом Контом, Антоненом Манем и г-ном Машавуаном, силуэт очаровательной черноволосой проститутки с Капри. Хотя их особые взаимоотношения не продлились и полгода. Едва мы вернулись в Рим, как Марина стала уезжать в разных направлениях. В Лондон, Мюнхен и, по иронии судьбы, — в Париж. Без Клода. В промежутках приезжала повидаться с нами. Выглядела она по-прежнему великолепно. Но жизнь всегда великолепна. Клод писал новеллу, разумеется с натуры, о любви молодого американца из Бостона к проститутке из Венеции. В течение одной осени он держался, то и дело уступая Марину промышленникам и режиссерам, которых в Плесси-ле-Водрёе и на порог бы не пустили. Зима и весна с их путешествиями в Мексику и балами в Нью-Йорке доконали эту любовь. Самым смешным в этой истории было то, что Марина в конце концов стала вхожа в самые элегантные салоны Европы, во всяком случае в те, что уцелели. Во время войны вышла замуж за наследника одной из самых аристократических римских семей, а после нескольких разводов, к концу жизни, стала самой настоящей герцогиней Британской империи. Я пишу и среди фотографий и бумаг, устилающих мой стол и ковер, вижу письмо, которое она мне прислала незадолго до своей смерти, два или три года назад. Она пишет там о Клоде, о Скиросе, об улице Витторио Венето, обо мне, о наших прогулках по пляжам и по окрестностям Рима. Подписалась она так: «Marina, principessa R. с Y., duchess of R.H. gh, prostituée à Capri». Все это выглядит таким далеким и забавным сквозь призму времени, надежд и крушений, что хочется тихо смеяться в одиночку. А на глаза наворачиваются слезы.
Я полагаю, что Клод действительно любил Марину. Во всяком случае, все произошло так, как если бы он ее любил. Потом он утешился другими наслаждениями и с другими девушками, о которых я не смог бы ничего вам сказать, потому что они не стоили Марины. Потом были еще другие книги и другие путешествия. Ведь мы приехали во Флоренцию почти детьми. А когда подошло время возвращаться, мы стали, можно сказать, взрослыми мужчинами. И нас охватило легкое беспокойство: мы возвращались в нашу жизнь, в настоящую, из которой мы вырвались к моряку со Скироса и к проститутке с Капри, вырвались на обжигаемые ярким солнцем пляжи и маленькие площади, разбросанные вокруг церковки с выцветшими фресками и галереей.
Однажды вечером в Ассизи — по вечерам, после походов или чтения книг в библиотеке, где мы всегда беседовали, — Клод сказал мне впервые, что та жизнь ему не по нутру. Насколько я могу судить, глядя в прошлое, сила нашей семьи заключалась в том, что мы всегда жили в согласии с собой. Полагаю, что слабость наша заключалась именно в этой наследственной уверенности в самих себе. Но это же составляло и нашу силу. Быть может, мы ошибались, то есть, разумеется, мы ошибались, выбирали совсем не те пути, какие следовало, оказывались в тупиках, но при этом никогда ни в чем не сомневались. Дедушка выразил это коротко: у нас были принципы. А Клод стал сомневаться. Он оказался втянутым во внутреннюю борьбу с самим собой, в борьбу между принципами и их крушением. В этом запоздалом юношеском кризисе сказалось все: отсутствие профессии, отрыв от семьи, уроки г-на Конта, вмешательство Марины, перспектива возвращения… Мы вдруг со страхом обнаружили, что можно счастливо жить и вне семьи. Мы обнаружили, что жизнь других людей, очень непохожая на нашу, была не менее прекрасна, чем наша. После стольких веков, проведенных в суровой дисциплине, в иерархическом режиме, мы открыли для себя сиюминутность, свободу, удовольствие, братство. И мы заколебались. Первыми в нашем роду мы позволили себе усомниться.
Сегодня я понимаю, что это именно из-за своих сомнений Клод стал поговаривать со мной о Церкви и о своем желании стать священником. В ходе истории среди наших предков постоянно кто-нибудь состоял в духовном сане. Когда мы с дедушкой смотрели священные книги семейства, то есть генеалогические таблицы, эти бесконечные списки родственников и их породнений, порой казалось, что на протяжении многих веков мы только и делали, что служили Церкви. Из поколения в поколение наши предки были священниками, епископами, кардиналами, а то и папами. Служителями Церкви мы становились не потому, что сомневались, а потому, что верили. Кстати, не всегда в Бога. А Церковь, ее деяния, в торжественность обрядов, в ее власть, а главное, в нас самих. Служителями Церкви мы становились потому, что в нас жила вера, порой настоящая. А Клод оказался первым, кто захотел стать священником потому, что сомневался. Он сомневался в нас, в наших правилах, в как-то вдруг показавшейся ему пустой жизни. Когда по вечерам мы разговаривали, гуляя по кромке пляжа или сидя за столиком кафе за стаканом местного винца или чашкой очень крепкого кофе, мы соглашались с тем, что так или иначе мы в любом случае принадлежим прошлому. Прошлое! Оно постепенно превращалось для нас в навязчивую идею. Будто клей оно приставало к нашему телу и нашей душе. Мы погрузились в чтение. Прошлое. В музеях, в древних камнях. Прошлое. В морской воде, на солнце, на дорогах среди холмов. Прошлое, прошлое. Даже в самые счастливые минуты сегодняшнего дня прошлое не покидало нас. Мы убегали от него на острова в компании моряка со Скироса, пытались скрыться от него в объятиях Марины. А оно повсюду нас преследовало. Мы были сынами прошлого и были похожи на него. Счастье каждой данной минуты не было достаточно сильным, чтобы противостоять ему, чтобы ускользнуть от гигантской тени дедушки. И вот Клод бросился в объятия вечного, чтобы уйти от прошлого.
Через два-три года после отъезда из Франции, из лесов Плесси-ле-Водрёя, от семейных портретов, прошлое нас победило. Как же нам хотелось стать частью того мира, вкус к которому нам привили книги и песок пляжей! Не раз в Риме, в Калабрии, в Сеговии мы встречали людей, нравившихся нам меньше, чем моряк со Скироса или проститутка с Капри, но в которых воплощалось будущее, о котором мы ничего не знали, но которое удивляло и завораживало нас. Социалисты, коммунисты, анархисты. Они рассказывали нам о своей борьбе, о забастовках на заводах, о красном знамени, о собраниях профсоюзов, о нападениях полиции и о братстве рабочих. И это тоже был неизвестный нам мир. Мы вспоминали о Мишеле, открывшем для себя Карла Маркса. Мы читали его меньше, чем Пруста, Барреса, Стендаля, Генри Джеймса, Шатобриана. Но мы чувствовали, что в этом зарождающемся и закрытом для нас мире что-то шевелится. Отец и мать много говорили мне о любви. Но это было другое дело. Мы не очень хорошо понимали. В той стороне, о которой мы ничего не знали, в стороне рабочих, социалистов, их красного знамени, угадывалась какая-то амальгама насилия и братства, совершенно нам чуждая. Через призму христианства, которым мы были пропитаны, через призму любви к переменам, овладевшей тетушкой Габриэль, через моего отца с его дружелюбием к людям, через мою маму с ее тягой к несчастью мы различали какие-то обрывки будущего, очень отличающегося от всего нам известного, но нам было очень трудно собрать все это воедино, понять, как Христос, книги, абстрактная живопись, свобода, насилие, прибавочная стоимость, любовь к бедным и к заключенным могли слиться в единый образ новых, грядущих времен. Вперемешку все это шевелилось внутри нас. Но мы не знали, как это выразить. И наше экзальтированное восприятие руин исчезнувших культур и белых домиков портовых городов вдруг показалось нам лишенным содержания. Мы плохо понимали реальную жизнь, подобно дедушке с его воспоминаниями и псарями, а то и хуже его, поскольку для него прошлое было еще живым. Нам хотелось есть и пить из источника жизни, ускользавшей от нас. Счастье, как и прошлое, было, наверное, тупиком. Мы всегда были изгнанниками, а может, и эмигрантами, живущими вне истории, творившейся вокруг нас. Клод обратился к Богу, потому что усомнился в мире, который нам достался.