Праздник побежденных: Роман. Рассказы
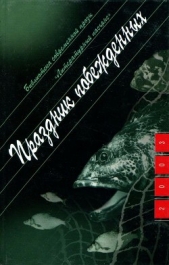
Праздник побежденных: Роман. Рассказы читать книгу онлайн
У романа «Праздник побежденных» трудная судьба. В годы застоя он был объявлен вне закона и изъят. Имя Цытовича «прогремело» внезапно, когда журнал «Апрель», орган Союза писателей России, выдвинул его роман на соискание престижной литературной премии «Букер-дебют» и он вошел в лучшую десятку номинантов. Сюжет романа сложен и многослоен, и повествование развивается в двух планах — прошедшем и настоящем, которые переплетаются в сознании и воспоминаниях героя, бывшего военного летчика и зэка, а теперь работяги и писателя. Это роман о войне, о трудном пути героя к Богу, к Любви, к самому себе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хорошо было и оттого, что он не предал память о них, а на набережной в эту минуту звучит именно «Кумпарсита», его военное танго.
— Собственно, мог бы и не вспоминать о своих амурах в наш день, — сказала Натали.
— Но ты же попросила, и потом, Ада Юрьевна так похожа на тебя.
— А ты бы солгал или отшутился.
— Я не знаю, как по правилам хорошего тона нужно отшутиться или ловчить, — сказал он убежденно, — но знаю, что никогда не лгал и буду говорить только правду.
— Ну и дурень, — хохотнула она, — ты правду, я правду, одна правда вокруг — глупо и неинтересно. И что было бы, если бы ты услышал от меня правду — ну, хоть бы про этот шрамчик на шее или про режа, как ты его называешь. А ведь сказана была бы только правда.
Ревность погрузила Феликса в кошмарный липкий сон, и, чтобы утонуть окончательно, он обнял Натали, мягкую и горячую, и остановил падение. Он лежал, тяжело дыша, а Натали гладила его голову и говорила, и, когда пришел слух, он понял, что Натали вовсе не ревнует его к Лельке, а Веру так и вовсе считает провинциалочкой с калошной фабрики, а вот его вымысел, Ада Юрьевна, которая так похожа на нее, Натали, так пусть присутствует, говорила она, но только в его голове, а она, Натали, обещает больше никогда не напоминать о ней. Но с этой минуты Натали при каждом удобном случае, а то и вовсе без случая, только и говорила об Аде Юрьевне, строя предположения, догадки, давая советы Феликсу, подтрунивая и изводя, стараясь прогнать призрачную даму, созданную его больным воображением.
Они переехали в родной город Феликса, и в его комнате в табачно-винном угаре, средь немытой посуды и разбросанных вещей, не выходя провели три ночи и три таких же безумных дня. Затем Натали отутюжила вещи и разложила их по стульям так, что вся комната пестрела заморскими этикетками, аккуратно уложила чемоданы и, не позабыв ни единой заколки, улетела на время в Москву, а для Феликса началось доныне неизведанное, полное сомнений, ожидания и бессонницы время. Запоздалая страсть всколыхнула энергию, о которой он и не подозревал, и, несмотря на возраст, он решил начать новую жизнь. Он мужественно отправился к дантисту лечить и вставлять зубы. Он принес из гаража заржавленные гантели и стал накачиваться по утрам. Он побелил комнату, покрасил полы, приобрел пару модных рубашек и горку льняного постельного белья. Он перестал выпивать, но заполнил сервант строем заморских бутылок в золотой парче этикеток, и они, на удивление Феликсу, прозябали непочатые, даже не обласканные его вожделенным взором. Наконец зубы были вставлены, и он стал ждать. То, гонимый первобытной ревностью, он покупал билет в Москву, то, презирая себя, сдавал его и махал гантелями до изнеможения, до седьмого пота, пока не валился без сил на свежевыкрашенный пол. Он бросался на каждый звонок и возненавидел телефон, но часами не мог отойти от аппарата. Он похудел, страдание и боль сделали взгляд задумчивым, и, странно, женщины, ранее в упор не замечавшие Феликса, теперь при встрече замедляли шаг и грустно глядели вслед. На работе он, положив руку на горячую станину «Ганса», мог часами слушать его утробные удары.
Он стал притчей во языцех, и контора зацвела махрово, зашепталась, косоротясь улыбочками в гроссбухи: «Бросила ли рыжая стерва иль приедет еще?».
И лишь Вера в простеньком голубом платьице с вязаным кружевным воротничком и ровным расчесом волос, похорошевшая, подобранная и строгая, улыбалась в глаза Феликсу, пожимая руку, и, на удивление, в ее голубом взоре не было ни тени сожаления. Феликс становился серьезным и грустным, как при встрече с чем-то подлинным, но непонятым им. Он долго хранил тепло Вериной руки, и из его ревнивого взора исчезала Натали. Он думал о Вере, о ее сатиновом платьице и понимал, что сущность Веры независима и свободна от внешнего, от драпировок, от ярких заморских тряпок, он вспоминал серебристо-змеистые платья Натали, развешанные по стульям в его комнате. Он ловил себя на том, что Вера ему интересней и ближе, чем Натали, что рядом с ней ему спокойно и ясно (и он становился самим собой). Вот Вера спокойно пересекла двор, поправила волосы и скрылась в двери. Феликс улыбался ей вслед, но в голове, помимо его воли, тысячи жучков-пильщиков начинали сверлить, скрести, пилить, и вновь появлялась блистательная Натали.
Он дал себе срок — ожидать десять дней, а что будет потом, не знал. Наконец прошли эти дни, наступила июльская жара. Звонка не последовало. Не зная, что предпринять, он увидел себя в зеркале — отощавшего, с воспаленным взглядом, и испугался. Он понял, что сходит с ума, и, как обычно в минуты отчаяния, весь вечер простоял перед портретом мамы, бормоча в ее улыбчивое лицо, а мать сквозь черную маску безмятежно глядела на выкрашенные полы, на выбеленную комнату, на увядающий букет гладиолусов на столе. Феликс некстати подумал, что гладиолусы — красно-синие и фиолетовые — чрезвычайно глупые цветы, но счастливые. Это цветы молодоженов и именинников, и он сам так же глуп, как гладиолус, но только еще и несчастен. А вот астры, хризантемы — цветы ушедших, тонкие и грустные, и долго источают тленный аромат с влажных могил.
Воспоминания о смерти родили мысль — нужно достать из шкафа машинку и подробно написать все о Фатеиче, о его водяной могиле. Он вспомнил свое возвращение из колонии и свою месть Фатеичу. Это было давно, но тот дымный город рельефно встал в его воображении и затмил огненную Натали.
Феликс поспешно достал машинку и, даже не взглянув на бутылки в серванте, сел к столу и разложил листы. Он вдруг удивился тому, что голоден, но хлеба в доме не оказалось, он нашел старые, каменные сухари и, размачивая их в крепком и сладком чае, грыз, мыслью блуждая в прошлом.
Наконец он отставил недопитый стакан и, как бы вовсе и не о себе, а о ком-то постороннем, подумал: странная штука любовь, она своей страстью, своим порывом то ведет к смерти, то перерастает в жизненную необходимость — творить и рассказывать о других, давно ушедших. Но другие вовсе и не другие, а все связано и раскачивается на чьих-то незримых весах. Уж совсем позабыв о Натали и о недопитом чае, и дымившей сигарете, Феликс выстучал название целой части воспоминаний:
Я выжил. И вывели меня из тюрьмы два исключающих друг друга чувства — любовь и ненависть. Я дал себе клятву выжить любой ценой, чтобы отомстить и сотворить справедливое. Для этого нужно подчиниться, ибо подчинение — наилегчайшая форма приспособляемости. Нужно тупо глядеть под ноги, не вмешиваться, не страдать, а главное — не думать, чтобы не сойти с ума. Но любовь к людям побеждала самосохранение. Я голодал, но делился коркой, махрой, носками, что связала бабушка, лишь бы на миг в глаза человеческие вселилась надежда. Голодающий ел корку, и на лице не надежда, а ужас. Ужас, что я передумаю и отберу. А потом оценочка с лукавинкой в глазу — не дурак ли я? И что можно еще от меня поиметь? Любовь к людям не бывает вознаграждена. Но я не мог быть равнодушным даже здесь, в лагерном бараке, где каждый подвержен инстинкту выжить.
Когда я начинал умирать и дух покидал истощенное тело, на смену любви приходила ненависть и приносила одно ослеплявшее слово: Фатеич. Я оживал. Я корчился и прокусывал губы. Ненависть сделала это имя величайшим смыслом моей жизни, способным затмить самый древний инстинкт — голод.
Я не знал, как и чем убью Фатеича, но был убежден: выживу, выйду и убью. А пока это имя сбрасывало с нар, наполняло ледяной решимостью взор, и организм неизвестно откуда получал резерв. Я становился в линейку и сквозь зубы фанатично цедил: «Фа-те-ич, Фа-те-ич». Я излучал неизвестную людям, но вопиющую ненавистью и жаждой жизни энергию. И тогда появлялся Спаситель — тщедушный замухрышка, и обязательно по национальности еврей. Я знал — это он. Такой же голоостриженный, в непомерном ватнике, но с повязкой Красного Креста. Он как бы принюхивался, скользя напряженным и осмысленным взглядом по землистым лицам, отыскивая нечто важное. И хоть я был далеко, плохо видим в задней шеренге, наши глаза встречались, вспыхивали, как бы связывая незримую нить, что лежала между нами. Способный на все, он убеждал режимного начальника, то подобострастно кивал и заискивал, бурыми от марганцовки пальцами перелистывая единственное оружие — свой ветхий медицинский журнал, то грозил со страшным лицом и даже притоптывал ногой, брови начальника с удивлением ползли под козырек. Происходило невероятное: перст режимного начальника среди тысячи понуроголовых и обреченных указывал на меня.

























