Праздник побежденных: Роман. Рассказы
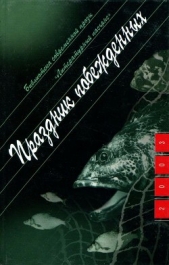
Праздник побежденных: Роман. Рассказы читать книгу онлайн
У романа «Праздник побежденных» трудная судьба. В годы застоя он был объявлен вне закона и изъят. Имя Цытовича «прогремело» внезапно, когда журнал «Апрель», орган Союза писателей России, выдвинул его роман на соискание престижной литературной премии «Букер-дебют» и он вошел в лучшую десятку номинантов. Сюжет романа сложен и многослоен, и повествование развивается в двух планах — прошедшем и настоящем, которые переплетаются в сознании и воспоминаниях героя, бывшего военного летчика и зэка, а теперь работяги и писателя. Это роман о войне, о трудном пути героя к Богу, к Любви, к самому себе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То, что Лелька дамочка, я понимал умом, но в душе отвергал и сотый раз спрашивал себя: как из Лельки, из тихой, робкой, виноватой девочки, совсем недавно поджидавшей меня в парадном, могла вырасти дерзкая, с порочной челкой и знающим себе цену взглядом красавица?
Я мучился, не находил ответа, и тогда же в тоске и бессоннице в моей голове впервые родилась мысль о смерти, и я упивался ею. Я видел себя в гробу в цветах, а рядом, конечно, плачущую Лельку, всю в белом, а вокруг небеса и сияющие самолеты, будто стрекозы. Нет, протестовал я, Лелька девушка. Но воображение рисовало и другую картину, рисовало ее в обнимку с другим. Но с кем? Я вглядывался в лица и не находил ответа, и все же отправился в горсад и, к своему величайшему потрясению, на сирени действительно увидел массу таинственных изумрудных мушек.
Однажды мне приснился сон, будто в вазоне на окне моей комнаты распустилась белоснежная лилия, приторно пахнущая, и мой рот густо покрылся желтой пыльцой. Я весь день чего-то ждал, никого не замечая, лишь трогал языком сладкую пыльцу на нёбе, а вечером, опьяненный еще и цветом лип, бродил по бульвару, поджидая темноты, чтобы увидеть в Лелькином окне оранжевый, словно парашют, абажур и, если посчастливится, ее тень на тюлевой занавеси. Звенела гитара, красногорские красотки в красных косыночках и чувяках шелушили семечки. Мели бульвар клешами нахаловские голубятники. Кроны деревьев налились чернотой и сомкнулись над головой. Я брел сумеречным, словно полным страдания коридором, понимая, что вовсе и не лилия, а цвет лип благоухает и пьянит, но продолжал слизывать желтую пыльцу.
Рядом кто-то рванул струны, и голос, глумливый, дерзкий голос, возбужденный женщиной, пропел:
Но не успело во мне при имени «Леля» нечто обрушиться иль возликовать, как я сразу увидел все. Я увидел Лельку в бостоновой жакеточке, в тапочках-спортсменках в ровной иноходи по краю тротуара. Увидел и стайку блатных, а тот же голос восторженно сказал ей в спину:
— Ну, не идет, а словно пишет — шалава!
Я не помню, как ударил в глумливое лицо, помню гитару на асфальте, кепку-восьмиклинку да красногорца на четвереньках, пускающего кровь. Я схватил в кармане нож, но тут же в глазах сверкнуло, и сам я отлетел под липу. И мало не было бы от этих, в клешах, с финками в голенищах, но кто-то тихо сказал:
— Шухер — Федулеичева пацан.
Они попятились. Кто-то поднял меня, кто-то отряхнул пыль, кто-то, водочно дохнув, сказал:
— Нет такого закона, пацан, чтоб из-за бабы людей по харе бить. Шалава она. Иди, гуляй!
Я помчался, подгоняемый свистом, и за углом натолкнулся на Лельку. И оцепенел, забыв сразу все слова, а она, опираясь под окном о стену и кривя улыбочку, спросила:
— Ну как, схлопотал? Сильно били? А ведь и финарем могли пырнуть.
Я, пораженный ее лексиконом, молчал, а она продолжала:
— Долго будешь волочиться хвостом? Папа тебе разрешил?
Слова били, словно камни, и я схватился за угол, чтобы не упасть, и в то же время боялся пропустить хоть слово.
Она умолкла и вся была близко, и дыхание было на моей щеке, и я с ужасом видел ее матросочку, оттопыренную грудью, и непреодолимое желание коснуться этой груди заставило поднять руку, но я не коснулся, а убежденно сказал:
— Лелька, я люблю тебя. Хочешь, я умру? Здесь! Сейчас! Хочешь? — И достал нож.
Мои слова звучали с такой убедительной силой, что она опустила руки, а широко открытые глаза готовы были наполниться слезами. И стала прежней кроткой Лелькой. Но боль и растерянность на ее лице переросли в ироническую гримасу, и Лелька, облизав губы, спросила:
— Любишь, говоришь? А я ведь теперь плохая, испорченная.
— Я прощу тебя, — выкрикнул я, — я вытащу!
Я забормотал что-то об усилии воли, о товариществе и комсомоле.
— А я не прошу прощения, мне хорошо.
И я подавился вскриком:
— Как?!
А она так надвинулась, что я видел тонкую матросочку, округло выдавленную грудь, и произошло невероятное. Преодолев панический ужас и забыв обо всем, секунду назад сказанном, я опустил руку на эту грудь. Лелька улыбнулась, затем, сняв руку и задержав в своей, сказала:
— Все вы одинаковые. Ты такой же, как и все, и за что я тебя когда-то любила?
— Лелька, а это правда, что ты с хулиганами на кладбище ходишь? И на твоем животе они в карты играют? — спросил я и испугался.
Она зло рассмеялась.
— А я что, поклялась тебе на крови быть верной? — взъярилась она. — Кто ты такой? А?
Ужас от того, что она уйдет, заставил опять заговорить с такой убежденностью, что лицо ее стало растерянным. А я говорил, боясь остановиться, говорил о любви и смерти, о маме, о цвете акации, о том, что у отца пистолет в письменном столе. Все не то, не так — фиксировал разум, но я не мог умолкнуть, ибо страсть опровергала разум, и слова были не важны, а главным было чувство, переданное воплем, и Лелька слышала и понимала мой крик.
— Придешь в десять за телеграф на берег Салгира, — наконец услышал я, и измельчали, а затем и вовсе исчезли все события моей жизни. Главным было одно — в десять за телеграфом.
Лелька ушла, а «придешьвдесятьзателеграф» без пауз музыкальным напевом проворачивалось и проворачивалось в моей голове, и, хоть было рано, неведомая сила несла к почтамту под часы. Было все еще девять, стрелки медлительно набирались временем, чтобы перепрыгнуть на следующую минуту. Я ждал, задрав голову и облизывая пересохший рот. Меня долго трясли за плечо, пока я оторвал от часов взгляд. Я увидел братца, немо шевелящего губами, и узнал дружка его — Косого вора, и, обрадованный, стал рассказывать, как люблю Лельку, ибо в ту минуту я не мог молчать и говорил, говорил, спрашивая совета. Братец слушал, кивал и наконец разъярился:
— На черта тебе изумрудные мушки, на черта и конфета? Ее не нужно баловать — нужна подстилка, деньги, папиросы, и дело в шляпе.
— Лелька не такая, — возразил я, а Косой, вор-домушник, безмолвно скользивший в мягких войлочных тапочках за братцем, неожиданно возбудился, отбил чечетку и пропел:
— Жарь, мама, чебуреки, жарь, мама, к-а-а-атл-а-ама.
— Ты слушай меня, если хочешь, чтоб был толк… — Братец толкнул в спину, и я помчался домой, не соображая, а повинуясь, ибо не было в тот вечер человека, более жаждущего исполнять чужую волю.
Бабушка возилась на кухне, отца дома не было. Я вбежал в его комнату, и было делом одной минуты вставить нож в копилку и опустошить ее. Горсти серебра показалось мало, и я, не раздумывая, вставил нож в письменный стол, отжал язычок и выдвинул ящик. Все аккуратно лежало на своих местах. Сияющий никелем браунинг в конфетной коробке, тут же патроны в промасленной тряпице, фотографии в стопке, похвальные листы в красной ленточке, коробочки с орденами и несколько банкнот. Я поспешно сунул в карман десятку и, не обращая внимания на сердитый взгляд наркома со стены, выскочил в коридор и там из сундука вытащил мамино старое пальто.
— Гони монеты, — встретил на улице братец, — и рви на мост, за телеграф.
Раздвинув ноздри и бормоча Лелькино имя, я помчался к реке. Вокруг перемещались и распускались черные кроны, и звездные россыпи взлетали ввысь, чтобы обрушиться на мою голову, а тротуар то проваливался коржом, то возникал где-то снизу. Я мчался в той таинственной ночи. У моста я сбежал к самой воде, лег, уткнувшись лицом в пальто. Сквозь нафталин я уловил далекий, но такой знакомый аромат маминых духов и, презирая себя за трусость, пожелал, чтобы Лелька обманула и не пришла. Но зашуршала трава, посыпалась земля, и по откосу сбежал Косой, и братец с бутылкой в руке тут же заверил:

























