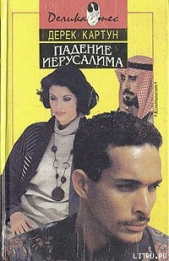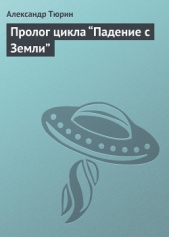Падение Ханабада. Гу-га. Литературные сюжеты.

Падение Ханабада. Гу-га. Литературные сюжеты. читать книгу онлайн
В повести «Гу-га» и романе «Падение Ханабада» общий главный герой — Борис Тираспольский. Вынесший из чистилища штрафного батальона лучшие качества души бесстрашие и чувство товарищества, в послевоенные годы, годы разгула культа личности, он по тем же законам живет и трудится на посту журналиста в одной из среднеазиатских республик.
В составе книги также интересные жизненные наблюдения, объединенные заголовком «Литературные сюжеты».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
г. Алма-Ата
1987–1989 г.г.
ГУ-ГА
Моим товарищам из 11-й Военно-
Авиационной школы пилотов.

Липкая, осклизлая плотность вдруг придвигается к лицу. Холод от нее ровный, устраняющий все, даже страх. Далеко-далеко внутри где-то держится остаток тепла. Так далеко это, как будто в другом мире, куда немыслимые расстояния. Если не двигаться, то все-все станет одинаково холодным, спокойным…
Удары горячего металла, чуть сотрясающие холодный пласт. Равномерные, дырявящие землю — ближе, ближе, у самой головы. Слышно, как вязнет металл, остывая. Эта особая чуткость не от сознания, а от той капли тепла, которая заставила только что опустить голову. И подступающий к горлу теплый комок отвращения. Все тот же запах от этой земли.
Тряпкой из шинельного кармана вытираю с лица грязь. Не со всего лица, а только от глаз, чтобы можно было что-нибудь увидеть во тьме. Тряпка мокрая и пахнет от нее так же. От рук, от шинели, от слипшегося в кармане хлеба этот запах. Его не знал я в прежней жизни…
Крутится, вертится ВИШ [11] —двадцать три… Я смотрю, кажется, равнодушно смотрю в близкую темноту. Не в серую даль, где видны расплывающиеся тучи и даже две или три звезды мутно пробиваются в ледяной испарине ночи, а именно в близкую темноту. Совсем-совсем близкую, так что даже ночью видны неровности от вздыбленного торфа. В школе я бегал стометровку: от флажка, где подавали корнер [12], до другого флажка. Но это ближе. Наверно, вполовину ближе. А может быть, и всего тут сорок метров. Я даже точно знаю, откуда ударила очередь. Это справа от оплывшего торфа, чуть сзади от него, где низом кверху торчит вывороченное дерево. Самого дерева нет: только искривленный корень в небе, если смотреть от земли. Иначе я его не видел. А кучки торфа на буграх, как видно, сложены здесь еще перед войной. Они размякли, потеряли всякую форму, и все же виден в них какой-то порядок. Сразу отличаются они от другого торфа, размятого в грязь, выброшенного из земных глубин. Впереди и рядом со мной лежит он неровными, не имеющими каких-то определенных очертаний горами. Снаряды по многу раз падали в одно и то же место, так что воронки накладывались одна на другую, перемешивая землю. Непонятно только, как сохранились там, впереди, эти пять или шесть прямоугольных холмов. Ничего больше не осталось здесь, связанного с жизнью.
Один миг это длилось. Локтем правой руки поправляю сдвинувшийся немецкий карабин с металлическим флажком у затвора. Бок у него гладкий и холодный — холоднее даже земли, на которой я лежу. В правом кармане у меня обоймы — тоже гладкие, массивные, не как у трехлинейки. По привычке сдвигаю чуть набок мокрую, туго обтянувшую голову пилотку. В недоумении задерживается рука. Пальцы ощущают жесткую кромку суровой ткани, шов поперек лба. Там что-то не так. На пилотке нет звездочки…
Снова режущий воздух звук горячего металла. Это хуже, потому что бьют теперь сзади. Со спины я открыт: мокрая земля нарыта только у моего лба. Очередь проходит наугад, цепляя верх торфяного холма. Даже ветерок как будто чувствую спиной. Но голову уже опускаю медленней. Снова вытираю грязное лицо, подкладываю под себя руки, стремясь сохранить остаток тепла. И думаю, все время думаю, но не о том, что случилось, а о другом, не имеющем уже значения…
А день очень жаркий. Даже при штабе, где сзади арык и обстриженные тутовники стоят в ряд над хаузом с водой, термометр показывает тридцать девять. Значит, на раз-летке сорок два. И ветра у нас почти не бывает, так что посадку с боковиком пришлось отлетать в третьей эскадрилье, в Красноармейске. Ветер у них такой, что поезда останавливает…
— А, Тираспольский!
Я вижу выходящего из штаба старшего лейтенанта Чистякова, командира нашего отряда.
— Значит, едешь?..
Пожимаю плечами, медленно поднимаюсь со ступенек, на которых сижу. Чистяков — летчик, и у нас не принято тянуться, как пришлось мне целый год в пехоте. «Авиация — мать порядка». Это любят повторять старые авиационные волки. А еще: «Где кончается порядок, начинается авиация». Старший сержант Кудрявцев и Шурка Бочков остаются сидеть. Они из другой эскадрильи. Впрочем, нам теперь ни к чему приветствовать начальство.
— Еду, — говорю.
Чистяков еще в дотимошенковских синих, с голубым кантом, галифе. У каждого довоенного летчика обязательно есть что-нибудь синее от старой формы, которая приказом наркома обороны была заменена в авиации на общевойсковую. Или штаны, или фуражка, или темно-синяя шинель с крыльями на рукаве. Это молчаливый портрет. Когда-то перед войной я тоже пошел в восьмой класс военно-воздушной спецшколы из-за формы. На углу Дерибасовской и Ришельевской стоял летчик во всем синем и ел мороженое. Правда, были еще Дни Авиации и фильм «Истребители». А перед этим еще челюскинцы, еще и еще…
Командир отряда переступает ногами, как бы пробуя мягкие брезентовые сапоги с низким по моде голенищем, протягивает руку:
— Счастливо тебе, Борис.
И бросает взгляд на окна штаба. Там в новой должности помощника начальника школы по строевой части — подполковник Щербатов. С ним приехали четыре «красноперых» лейтенанта — на запроту и по одному на эскадрилью. Хотят все же навести порядок в авиации.
Кудрявцеву и Шурке Бочкову Чистяков только кивнул: «И вам… счастливо!» Сел легко, чуть боком, в «виллис» и рванул с места в отворенные на улицу ворота. По имени назвал меня командир отряда. Это с ним редко бывает. Только когда в зоне красиво отлетаешь. И вот сейчас…
Я беспокоюсь за Вальку Титова. Уже десять часов. Вот-вот после облетки приедет Бабаков. Это похуже Щербатова, если под дурной глаз у него попасть. А мы трое сидим здесь, на ступенях штаба, вовсе без охраны. Валька получает на нас документы, двое других сопровождающих нас от эскадрильи еще не явились, а Со пошел к Лидке в АМС [13]. Со это Ленька Соболев из ворошиловградцев.
Валька, наконец, выходит из штаба. Винтовка у него висит на локте, документы он запихивает в карманы гимнастерки. И тут на «Додже — три четверти» в ворота влетает полковник Бабаков. Почему-то всегда на этой машине ездит начальник школы. Как и все летчики, он сам за рулем.
Длинный, весь подавшийся вперед, с жесткой сединой в темных волосах, полковник как ворон торчит на высокой открытой машине. Круто развернувшись, он осаживает у самых ступеней и бежит вверх, чуть не наступив на нас. Вылупившийся на него Валька Титов едва успевает шагнуть в сторону.
Мы переглядываемся. Значит, погода сегодня хорошая. Полковник Бабаков, несмотря на нынешнее наше положение, в которое попали мы трое без его участия, пользуется нашим уважением. Еще в двадцать девятом году участвовал он в китайском конфликте, потом на Халхин-Голе и Финской кампании. В начале войны был подбит и в генеральском звании стал командовать военно-воздушным округом где-то в Сибири. Вот уж для чего это был неподходящий человек. За полгода, говорят, при нем так разворовали округ, что до сих пор еще работает там комиссия. А Бабакова — в полковники, и командовать нашей школой.
Здесь он тоже ничего не видит, и тогда всем хорошо. Вот и нас сейчас не заметил. Но вдруг что-то соскакивает у него. Тогда все запирает. Три или четыре дня он носится из эскадрильи в эскадрилью, проверяет службы, склады, столовые, рвет и мечет. Даже караульные посты полковник проверяет с воздуха. В тяжеломоторной авиации ему летать нельзя по ранению. Он садится в «УТ-2» и вдруг вылетает над каким-нибудь постом из-за ближней чинары. Такой же сгорбленный торчит из кабины выше козырька, виражит в пяти метрах от земли и грозит кулаком. Один раз он так и записал в дежурной книге: «При проверке с воздуха обнаружено: в 8.15 часовой у прачечной бросил винтовку и жрал дыню. Трое суток ареста». Какой там — ареста! Тогда еще в начале школы, губы при штабе не было. Капитан Горбунов отбирал у курсанта ремень и выгонял на три дня в сады, в старый город. С условием, чтобы на глаза тот не показывался. Это уже подполковник Щербатов по приезде ввел настоящую губу с караулом и прочим. В том его и специальность.