Дондог
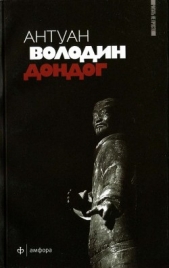
Дондог читать книгу онлайн
Антуан Володин — так подписывает свои романы известный французский писатель, который не очень-то склонен раскрывать свой псевдоним. В его своеобразной, относимой автором к «постэкзотизму» прозе много перекличек с ранней советской литературой, и в частности с романами Андрея Платонова. Фантасмагорический роман «Дондог» относится к лучшим произведениям писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В темноте и затхлости 4А он ощущал себя вялым и безжизненным. Тут же была и история, такая же безжизненная и темная, и он не видел ни к чему удерживать ее в себе, ни к чему давать ей рождение. У него не было никаких оснований ни говорить, ни молчать. В подобных терминах вопрос не стоял. Что у него было, так это сон.
— Не засыпайте, — встряхнул его Маркони. — В ночь перед угасанием ни за что нельзя засыпать.
— А? — переспросил Дондог.
— Это приносит несчастье, — заключил Маркони.
— Какое там, — сказал Дондог. — В том состоянии…
— Соберитесь, Бальбаян, с силами, — наседал Маркони. — Вы вот-вот умрете, не время сдавать. Ведите себя так, как будто здесь присутствует Джесси Лоо. Как будто вы должны быть перед ней на высоте.
— Джесси Лоо, — сказал Дондог. — Не верится, что она еще может прийти…
— Она, чего доброго, уже здесь, — сказал Маркони.
Дондог выказал недоверие.
— За дверью, — подсказал Маркони. — Прямо сейчас за ней и шаманит.
— Я ничего не слышу, — сказал Дондог.
— Ведите себя так, будто слышите ее барабан, — сказал Маркони. — Облегчите ей задачу, Бальбаян. Она здесь, чтобы вам помочь. Выкладывайте оставшиеся у вас за душой образы. Она, возможно, извлечет из них что-нибудь полезное.
Наступила тишина. Она длилась добрых два часа. Мне в голову не приходило никаких мыслей. Я старался расслышать барабан или колдовские воздыхания Джесси Лоо позади двери. Я ничего не слышал.
— Давайте, — настаивал Маркони. — Последняя ясная страница перед угасанием.
— Перед местью, — поправил Дондог.
— А, вы все еще носитесь с этим, — с сожалением откликнулся Маркони.
— Ну, — сказал Дондог. — Просто чтобы что-то сказать.
Он сделал вдох. Воздух нес больше хлама, чем газа. Сырость кишела комками.
— Смелее, Бальбаян, — подначивал Маркони.
— Предупреждаю, — сказал Дондог. — Это история любви. И чувствую, что она будет печальной.
— Неважно, — сказал Маркони. — Джесси Лоо слушает вас.
— Ладно, — сказал Дондог и начал рассказывать.
Однажды ночью, в духоте какого-то плохо освещенного сада, ко мне подошла незнакомая женщина и на языке, которым я не пользовался с самого детства, на уйбурском, сказала, что ей меня не хватало, что меня ей бесконечно недоставало и что она все время не переставала меня любить.
Мы находились в двух километрах от южного портала, в лагере 21. Близилась полночь, общественный сад был пуст. Под кустами в подземных трубах журчала вода. В сумерках разразилась гроза, но дождь уже перестал. Под прессом темноты и жары благоухали листья фикусов, поблескивая там и сям, когда на них падал свет уличных фонарей.
Незнакомка выдала свою речь залпом, словно произнесла затверженное наизусть послание. Но эмоция искажала ее голос, а на третьей фразе изменили голосовые связки. Слова распались, стали неуловимы для уха. Густая тень мешала мне читать у нее по губам. Наконец она смолкла.
Поначалу я не знал, как ответить. Так непривычно, когда к тебе обращаются по-уйбурски, в лоне знойной ночи, обращается женщина, с которой ты никогда не встречался и которая тебя любит.
За деревьями простиралась зона Краук, комплекс павильонов, где потрепанные девицы предлагали подчас Дондогу свои жалкие сексуальные услуги. Промелькнула мысль, что меня заклеивают, но я ее тут же отмел. Конечно, нет. Эта женщина говорила о любви отнюдь не за доллар.
По совсем близкому проспекту с черепашьей скоростью проезжал оснащенный громкоговорителем джип, он пролаял какую-то полицейскую фразу, после чего вернулся покой, лиственный, влажный, без тайны.
— Вы спутали меня с кем-то другим, — произнес я.
Сумрачный жар застаивался. Я ощущал, как по всему моему телу стекают ручейки. Я давно не разговаривал и теперь говорил вязко и путано. Мне было стыдно. Стыдно своего голоса, своего пота, стыдно, что я так скоро, за каких-то сорок лет заключения стал жалкой развалиной.
— Я разговариваю с Дондогом Бальбаяном, — пробормотала она, как будто кто-то просил ее описать свои дела и поступки.
— Вот я и… — сказал я. — Это недоразумение.
Над нами верещали насекомые. Я не понял ее ответа, нескольких слов, которые она произнесла совсем тихо.
Шевельнулась ветвь. Луч света упал ей около переносицы, и я в первый раз после того, как она остановилась прямо передо мной, встретился с ней глазами. Они с тревогой меня вопрошали. Они блестели. Говорят, что взгляд уйбурских женщин, когда вокруг не слишком светло, играет багряными отблесками. Зрачки незнакомки не обладали этими рубиновыми переливами, что снимают всякие сомнения в этнической принадлежности. Они просто-напросто были очень и очень черны.
Истекла горстка секунд. В ветвях, совсем рядом, пилили железные патрубки насекомые. Не было ни единого порыва ветерка, но деревья оказались наделены своими собственными движениями, покачивалась ветка, и лицо женщины внезапно стерлось, потом вновь осветилось. Оно ничего мне не напомнило, разве что тех азиатских красавиц, что часто посещали мою прозу, потрясающих женщин без возраста, чьи черты не менялись по вступлении во взрослую жизнь до самой старости и после нее. Какое-то мгновение я внимательно в него всматривался. В уголках ее век ветвились крохотные морщинки. Ей довелось соприкоснуться с жестокостями жизни. Она насмотрелась им в лицо.
Насекомые прекратили наконец свой кошачий концерт.
— Мы были разлучены, Дондог Бальбаян и я, — пробормотала она. — Я не осмеливалась уже и надеяться, что его отыщу. В лагерях, где я искала, мне часто говорили, что его подвергли эвтаназии. Я не верила своим информаторам.
— Он мертв, — сказал я. — Он отбыл свои тридцать без права на помилование и десять ссылки, а потом, в день, когда предстояло пересечь ворота лагеря, к нему пристал швитт и пришил его.
— А, — вырвалось у нее.
— Мне очень жаль, — сказал я.
Мое сердце билось. Она была бесподобна и не имела возраста, она была взволнована, она была трогательна. И мне не верила. Бывают такие дни, когда мне удается лгать с легкостью и изяществом, так что никто об этом не догадывается, но здесь мое смущение бросалось в глаза. Я потел, я спотыкался на каждом слоге. Я был не властен над своей неподвижностью. Был не властен ни над своей неподвижностью, ни над своей ложью. Не знаю почему, мы сразу заговорили в приглушенных тонах. Бормотали, словно простершись бок о бок, спящий со спящей. Мы болтали, словно двое не желающих окончательно просыпаться любовников. Это ночное согласие казалось мне несуразным, ни на чем не основанным и в итоге вызывало беспокойство. Я никогда не был сведущ в человеческих — или каких иных — отношениях. Я не знал, как толковать то, что происходит между нами.
Я еще раз заметил бороздки, расходившиеся лучами от ее миндалевидных глаз, и с огорчением подумал о житейских жестокостях, которым эта не уйбурская женщина, возможно, взглянула в лицо во время второго уничтожения. Она присутствовала при охоте на уйбуров. Но с кем она была, когда охота началась? С мучителями или мучениками?
— Непостижимо, как человек, которого я люблю, может меня не узнать, — сказала она.
— Что… — сказал я.
— Я Элиана Хочкисс, — сказала она.
— Элиана Хочкисс… — повторил я осмотрительно нейтральным тоном.
Ее имя ничего мне не говорило. Элиана Хочкисс кусала себе губы. Мое поведение ее подавляло.
— Послушайте, — предложил я, — пройдемте немного дальше. Вернемся на улицу.
Я слегка коснулся ее руки, чтобы указать направление, куда идти. Она повернулась на месте и зашагала по аллее рядом со мной. У нее был грустный вид. Она смотрела прямо перед собой, себе под ноги, но не перешагивала лужи, ступала сандалиями прямо в воду, не обращая внимания, что мочит свои голые, костлявые и не такие уж миниатюрные ноги. Одета она была так же, как и все мы, как все таркаши, в отрепье с чужого плеча, но манера его приспособить придавала ей неоспоримый шик, и в конечном счете ее одеяние напоминало творение авангардного модельера из тех, кого в свое время, меж двумя войнами, можно было увидеть по телевизору на модных дефиле.
























