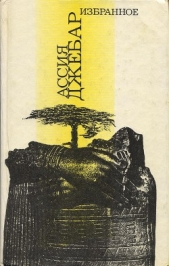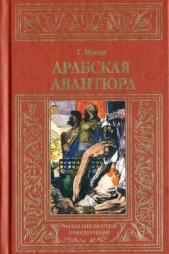Любовь и фантазия

Любовь и фантазия читать книгу онлайн
В предлагаемый советскому читателю сборник включены романы «Жажда», «Нетерпеливые», «Любовь и фантазия», принадлежащие перу крупнейшего алжирского прозаика Ассии Джебар, одной из первых женщин-писательниц Северной Африки, автора прозаических, драматургических и публицистических произведений.
Романы Ассии Джебар объединены одной темой — положение женщины в мусульманском обществе, — которая для большинства писателей-арабов традиционно считалась «закрытой».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лла Зохре из Бу Семмама больше восьмидесяти. Я переступаю порог ее нынешнего жилища на выходе из деревни Менасер. И вот я на тропинке, ведущей в ее огород, который она сама обрабатывает, я останавливаюсь между ореховым и абрикосовым деревьями, вскоре она мне с гордостью будет показывать их.
Вторая дверь. Ее легкий стук заставляет смолкнуть неумолчную колыбельную швейной машинки. Побеленные известью комнаты выходят во внутренний, весьма скромный дворик, откуда видны склоны гор и пик Марсо с его заброшенными сторожевыми вышками.
Первой появляется молодая женщина-швея. За ней следует старая хозяйка. Мы обнимаемся, целуемся, вглядываемся друг в друга. Я сажусь. Напоминаю о смерти бабушки, случившейся на другой день после провозглашения независимости. Лла Зохру я не видела с тех самых пор.
— Твоя бабушка и я, мы были двоюродными сестрами, — рассказывает она. — Хотя тебе-то я, конечно, ближе по отцу твоей матери, мы одного с ним рода, одного племени. А она, она была связана со мной по другой линии, по женской!
Я слежу, как она распутывает сложные генеалогические переплетения: с той горы тянется нить до того холма, да еще через ту зауйу и это селение, и так до самого центра города. Я пью кофе. Потом говорю ей:
— Я приехала с ночевкой!.. Так что у нас есть время!..
Голос ее ворошит тлеющие угли вчерашнего костра.
Склоны горы не раз успеют поменять свои оттенки за оставшиеся полдня, а тем временем в самой глубине дворика швейная машинка снова заводит свою неумолчную песнь. Швея, приемная дочь рассказчицы, не вслушивается, ей не хочется погружаться во все это. Позже она спросит меня, нельзя ли устроиться работать в соседнем городе, на почту или в детский сад…
Я согласилась, матушка, проводить тебя в горы, на твою мызу. После двух часов ходьбы по тернистым тропкам мы отыскали святилище, ты называешь его «убежищем», заимствуя французское словно, едва заметно исказив его: уцелевшие стены возвышаются над развалинами. Почерневший фундамент хранит множество дымных следов от огня, который разводят уже теперешние бродяги.
Там голос твой повел свой рассказ дальше. Солнце стояло высоко. Отбросив на плечи покрывало, ты опустилась на землю среди зарослей утесника и весенних трав. Я сфотографировала на фоне маков твое изрезанное тонкими морщинками, но сохранившее непреклонную суровость лицо, на котором навеки, казалось, застыло мечтательное выражение… Солнце потихоньку клонилось к закату. Вернулись мы в тихом молчании сумерек.
Рассказать в свою очередь. Передать то, что было сказано, потом написано. Вспомнить слова более чем столетней давности, а также те, которыми мы обмениваемся сегодня, мы, женщины одного и того же племени.
Осколки звуков, которые оживают во время мирной стоянки.
Лагуат, лето 1853 года. Предыдущие осень и весну художник Эжен Фромантен провел в погруженном в дреме сахеле, похожем на наш сегодняшний, матушка.
Начинается лето. Следуя какому-то неясному импульсу, он устремляется на юг. Полгода назад Лагуат пережил ужасную осаду. Оазис был захвачен французами, причем битва велась за каждый дом. Под пальмами еще можно различить груды мертвых тел, и Фромантен (подобно мне, которая внимала тебе все это время) слушает рассказ своего друга.
Да вот взгляните, — сказал мне лейтенант, останавливаясь перед очень бедным на вид жилищем. Вот скверный домишко, который мне хотелось бы сровнять с землей.
И так, печально шагая рядом со мной, он в нескольких словах поведал следующую историю, на которой лежал отпечаток невеселых воспоминаний о жестоких случайностях на войне:
— В доме этом, который после взятия города сменил хозяина, прежде жили две очень хорошенькие уроженки Улед-Найла… [66]
Фатима и Мерием, уроженки Улед-Найла, живут в оазисе, они и танцовщицы, и проститутки. Им самое большее лет двадцать. Пятнадцать лет тому назад эмир Абд аль-Кадир атаковал аль-Махди, что возле Лагуата, дабы попытаться подчинить себе властителей Юга и объединить тем самым силы сопротивления против Христианина… Быть может, во время этой междоусобной войны девушки потеряли отца или кого-то из братьев? Возможно, что это так. Но когда мы встретимся с ними в том далеком прошлом, они уже будут торговать своей цветущей красой…
Если бы им довелось дожить до сорока лет, быть может, матушка, и они стали бы своего рода хадиджами, вроде той, с которой ты повстречалась в тяжкие минуты страданий и пыток: разбогатевшими греховодницами, мечтающими совершить паломничество, «дабы испросить прощения и принести золото партизанам»!
За несколько месяцев или недель до осады Лагуата Фатима с Мерием тайком принимают двух офицеров французской части, патрулировавшей в окрестностях, но не в целях предательства, а только ради ночи любви, «да оградит нас Аллах от греха!».
— После уличных боев 4 и 5 декабря трупов стало так много, что колодцы оазиса оказались переполнены! — рассказывала я.
— А Фатима? А Мерием? — не выдержав, прерывает меня Лла Зохра, с удивлением обнаружив, что внимает этой истории, словно легенде, сочиненной аэдом-древнегреческим певцом. Откуда ты все это взяла? — нетерпеливо спрашивает она.
— Я это вычитала! — отвечаю я. — Один очевидец рассказал об этом своему другу, а тот потом написал.
Итак, лейтенант, один из тех, кого принимали уроженки Улед-Найла, входит в состав первой атакующей роты. Он дрался весь день. Когда же наступило затишье-«сражались, пока не дошли до самого сердца города», уточняет он, — узнав вдруг места, где они очутились, он вместе с сержантом направляется к жилищу танцовщиц.
Оттуда выходит солдат: с покрасневшего от крови штыка капли ее стекают в ствол. За ним следуют двое сообщников, руки их полны женских украшений, все трое тут же спасаются бегством.
«Слишком поздно!»- думает лейтенант, входя в дом, где его так приветливо встречали раньше.
И это конец.
«Фатима была уже мертва, Мерием — при последнем издыхании. Одна лежала во дворе, другая — у самой лестницы, с которой она скатилась головой вниз» — так рассказывает очевидец, а художник записывает.
Две юные танцовщицы, обнаженные до пояса, с видневшимися сквозь разорванную ткань бедрами, распростерлись с непокрытыми головами, лишенные каких бы то ни было украшений; ни диадемы, ни подвесок, ни халхалов, ни коралловых ожерелий с золотыми монетами, ни стеклянных пряжек — ничего… А во дворе все еще горел разведенный в печи огонь и блюдо с остатками недавно приготовленного кускуса не успело остыть. Все, казалось, было на месте: прялка и веретено с шерстью… только ларец из оливкового дерева с вырванными петлями валялся на боку — понятное дело, пустой.
«Умирая у меня на руках, Мерием выронила форменную пуговицу, сорванную ею с убийцы!» — вздыхает лейтенант, подоспевший слишком поздно.
Через полгода офицер передал этот трофей Фромантену, и тот сохранил его. Фромантен так никогда и не напишет картину гибели танцовщиц. Но, быть может, именно этот вполне осязаемый предмет заставил художника, живописующего алжирскую охоту, стать бытописателем скорби?.. Словно рука Фромантена опередила его кисть, и слова оказалось довольно, чтобы донести до нас воплотившуюся в нем весть из прошлого…
Умирающая Мерием протягивает руку с форменной пуговицей, предназначая ее любовнику или другу любовника, которому остается только одно: писать. И время исчезает. Теперь уже я, твоя сестра, перевожу этот рассказ на родной язык и передаю его тебе. Так, матушка, сидя рядом с тобой возле твоего огорода, я превращаюсь в некую сказительницу, пробуя свои силы.
Этой ночью, проведенной в Менасере, я спала в твоей кровати, воскресив то далекое время, когда я еще девочкой прижималась, ища успокоения, к матери моего отца.
Любое собрание — по случаю ли похорон или свадьбы — непреложно следует раз и навсегда установленным законам; прежде всего это неукоснительное разделение полов: ни в коем случае нельзя допускать, чтобы кто-нибудь из близких мог увидеть вас или, чего доброго, двоюродный брат, смешавшись на улице с толпой мужчин, мог узнать вас, когда вы, закутавшись с головы до ног в покрывало и потому ничем не отличаясь от себе подобных, выходите или входите, затерявшись в сутолоке безликих женщин.