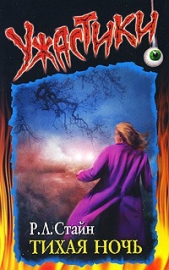По дороге к концу

По дороге к концу читать книгу онлайн
Романы в письмах Герарда Реве (1923–2006) стали настоящей сенсацией. Никто еще из голландских писателей не решался так откровенно говорить о себе, своих страстях и тайнах. Перед выходом первой книги, «По дороге к концу» (1963) Реве публично признался в своей гомосексуальности. Второй роман в письмах, «Ближе к Тебе», сделал Реве знаменитым. За пассаж, в котором он описывает пришествие Иисуса Христа в виде серого Осла, с которым автор хотел бы совокупиться, Реве был обвинен в богохульстве, а сенатор Алгра подал на него в суд. На так называемом «Ослином процессе» Реве защищался сам, написав блестящую речь, и все обвинения с него были сняты. Две книги, впервые публикующиеся в русском переводе, сыграли в жизни Герарда Реве решающую роль и стали подлинным событием литературы XX столетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Действительно, редко получается быть для кого-то лучиком света, но если дозволено им стать хотя бы раз, то благодарю Тебя, Создатель. Месяца четыре с половиной назад ко мне зашел человек лет тридцати пяти-тридцати шести, он работал в каком-то банке; после прочтения «По дороге к концу» и медитаций на темы, которые я затронул в этой книге, он вылечился от нервной дрожи, переходящей в длительный паралич, неврологических болей и кошмарных, просто сокрушающих страхов. Он спросил еще по телефону, не хотел бы я получить какую-нибудь книгу в подарок. Я выбрал «Прозрачные границы облаков» Блума[225] в мягкой обложке и остался бы доволен, но он решил, что я скромничаю, потому принес с собой экземпляр Oeuvres Completed[226] Рембо, который я теперь всегда держу на видном месте, чтоб все видели, что я тоже не с улицы. Чуть позже мне позвонил уже другой человек, который за день до этого, после обеда по дороге на работу купил нашумевшую книгу, еще в конторе начал ее просматривать, потом пошел к шефу и попросил его отпустить, взял сразу отгул на следующий день, купил выпивки, сигарет, сел в кресло перед камином в половину десятого утра и читал, не отрываясь; теперь же, в половине пятого вечера, он позвонил мне, чтобы сказать, что совершенно не жалеет о том, что взял выходной. Я потом долгое время сидел, уставившись перед собой, и чуть не плакал. Если тебя одаривают премиями, Деньгами, восхищением и славой, то все это прекрасно, но это глупость и гордыня, потому как чего стоит писатель, пользующийся всеобщим вниманием и имеющий громкое имя, все, что он пожелает, если никто не взял выходной специально для того, чтобы прочитать его книгу? Никто не берет выходной, чтобы почитать Виллема Брандта или Федде Схурера, никто не брал выходной, чтобы прочитать, например, собрание статей Алгры за целый год, но ради меня, не вовремя рожденного, этого не заслуживающего, кто-то взял отпуск, и это сам Бог, потому что это Любовь. «Отпусти с миром верного слугу своего».
Прежде чем я вновь попрощаюсь с вами — это письмо должно было быть готово и отправлено по почте еще несколько недель назад, — я хотел бы сделать еще по меньшей мере два сообщения, которые просто уже не могу держать при себе. Первое: теперь я могу открыть вам имя изобретателя Сухопутного Крейсера, чтобы оно «не сгинуло в вечности», потому что гаагский врач Й.Й.Е. прислал мне пространное письмо, в котором сообщал, что человека того звали Петковик, что родом он был из Хорватии и «видимо, чудаковат, потому что держал тигра вместо домашнего животного». «Кажется, примерно в двадцатых годах он покинул Индию, чтобы стать монахом и медитировать на горе Афон. Когда я жил в Индии (с 1930 по 1935), я читал в газете, что некий Петковик был задержан властями, потому что провез через границу немыслимое количество золота. Больше я о нем никогда не слыхал».
Тонкая закручивающаяся полоска золота, которую он дал моему отцу, скорее всего была, по мнению моего корреспондента, того сорта, который в то время дантисты использовали для зубных пломб, а сам мужчина, вопреки моим предположениям, был не инженером, но неправомочным или по фальшивым документам практикующим дантистом.
Второе, более удивительное сообщение, состоит в том, что Вими теперь ест рыбу. И это чистая правда, потому что сообщил мне об этом лично Водопроводный Призовой Жеребец М. (миленький, пушистенький, Изящный Звереныш). Черт возьми, с другим вот пожалуйста — было первое, что я подумал, об этом услышав, вспомнив сразу обо всех упреках, что мне приходилось выслушивать из года в год каждый раз, когда я хотел, например, сварить для кошечек рыбки или, nota bene, с газеты или куска бумаги сам хотел съесть такой скромный Божий подарок, как кусок копченой селедки. Оказывается, Призовой Жеребец привил ему рыбоперерабатывающие способности, и, таким образом, все становится более-менее понятным, потому что ради Призового Жеребца и я сделал бы, ну, если не все, то почти все, и, например, совсем не возражал бы поймать для него какого-нибудь мальчика, а пока он будет его, привязанного к постели, мучить, я, прислушиваясь к восходящим безнадежным крикам, доносящимся из-за двери спальни, спустился бы вниз и налил ему охлажденного Крепкого Напитка или пива в светло-фиолетовый прозрачный стакан, подал бы ему, а потом лег на очень жесткий плетеный коврик у кровати и, дрожа от обожания и счастья, ждал бы дальнейших приказов. (Волосы Призового Жеребца были очень коротко острижены, когда я его видел.) Записывая все это, я с еще большим прискорбием, чем прежде, понимаю, что даже когда я закончу «Книгу Фиолетового и Смерти», покоя мне даровано не будет, потому что мне немедленно придется начать работу над большой мистической книгой пыток, которую я назову «Марс в Скорпионе». И, может быть, я смогу ее закончить, надеюсь, еще при жизни сенатора Хендрика Алгры, но, боюсь, не суждено, потому что еще до того времени я сопьюсь до смерти, может, так и лучше. Мне это не мешает — я имею в виду, что я все равно должен писать и совершенно неважно, сколько я написал и закончу я работу или нет. Ведь даже если я ничего больше не напишу, или, напротив, все, что я напишу, будет бессмыслицей, смехотворным унижением, то и тогда моя бесполезная, несчастная жизнь и напрасный труд являются лишь доказательством непостижимого Величия Господа Бога.
Кроме того, что я развил в себе умение бесшумно вытаскивать пробку из бутылки — сначала нужно вытащить ее почти полностью, потом подождать, пока разреженный воздух наполнит горлышко, затем чуть раскачать ее, очень осторожно, — мне сообщить больше не о чем. И даже если кто-то совсем рядом, он ничего не замечает, а стакан — разумеется, пустой — лучше держать в кармане пиджачка. Знаете, чего бы мне больше всего хотелось? Написать стихотворение, в котором было бы все, так что мне больше никогда не приходилось писать стихи. Иногда в двух-трех словах содержится очень многое — Ван О. вспоминал, как однажды в Роттердаме, тридцать три года тому назад, в квартире на верхнем этаже, во время проходившего в задней комнате политического собрания, он наблюдал за ребенком в манеже, который с трудом карабкался вдоль стенки, потом встал на свои рахитичные ножки и, схватившись за край дверцы, сказал: «Тактика рабочего класса». Это прошлое, что-то в нем есть. Со многим лучше просто смириться. Я знаю, что так и должно было быть, что Деньги вдруг появились у меня как раз тогда, когда они перестали быть для меня источником наслаждения. В сущности, на свете нет больше ничего, чем я действительно хотел бы обладать, за исключением возможности находиться где-нибудь, откуда меня не могут выгнать и где я могу писать, где я слышу только ветер, который, как морской отлив, гудит и рвется сквозь могучие деревья кладбища, а не вокальный ансамбль «Синие Бородки»[227] с Адо Броодбоомом.[228] Вот и все, теперь я расстаюсь с вами. Прощайте, прощайте!
Письмо, размытое слезами
Греоптерп, 14 октября 1964 года. Уже почти со всех кладбищенских деревьев опали листья, да и в саду все отцвело; и лишь святой цветок — одинокая хризантема недавно распустилась в знак того, что мы семимильными шагами приближаемся к большому Празднику Всех Скорбящих. Где-то вдалеке лает собака, через крышу на несколько мгновений оседают в доме запахи до времени растопленной плиты и все также неизбежны мысли о прошлом. Я думаю обо всех, кого я когда-то знал и кто теперь мертв.
Все это написано в неслыханной тоске и постоянно усиливающемся отчаянии; автор не пил уже три с половиной дня; после того, как он притворился безумным.[229] Начальнику хора. Осенняя песнь, или псалом вечерний. Я хотел бы, чтобы это письмо было наполнено кротостью и нежностью, редким трепетом тишины и Внимания и было бы совершенно беззлобным по отношению ко всякому Божьему творению; я хотел бы, чтобы каждый, его читающий, притихал, а некоторые начинали бы даже плакать — но это уж в крайнем случае. Вот чего я жажду и на что надеюсь, сидя у окна и уставившись наружу. Погода очень ясная, тихая, но временами мне кажется, что я слышу пустой, жалобный голос — ветерок качает верхушки хвойных деревьев. (Ты скоро придешь? Да, да, сейчас. Warte nur, warte nur.[230])