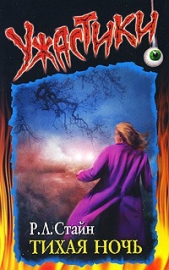По дороге к концу

По дороге к концу читать книгу онлайн
Романы в письмах Герарда Реве (1923–2006) стали настоящей сенсацией. Никто еще из голландских писателей не решался так откровенно говорить о себе, своих страстях и тайнах. Перед выходом первой книги, «По дороге к концу» (1963) Реве публично признался в своей гомосексуальности. Второй роман в письмах, «Ближе к Тебе», сделал Реве знаменитым. За пассаж, в котором он описывает пришествие Иисуса Христа в виде серого Осла, с которым автор хотел бы совокупиться, Реве был обвинен в богохульстве, а сенатор Алгра подал на него в суд. На так называемом «Ослином процессе» Реве защищался сам, написав блестящую речь, и все обвинения с него были сняты. Две книги, впервые публикующиеся в русском переводе, сыграли в жизни Герарда Реве решающую роль и стали подлинным событием литературы XX столетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Женщина и девочка — собака у них была совсем недолго и вскоре от чего-то сдохла — были соответственно женой и единственной дочерью Паула (вообще-то Саула) де Г.,[212] уже тогда если не руководителя, то важного деятеля Коммунистической Партии Голландии. Они проживали на втором или третьем этаже в доме на Линнаюспарквех, в получасе ходьбы от нашего. Салли сразу же пригласила нас с братом заходить, когда вздумается, Розочка будет рада, потому что, насколько я помню из речи Салли, у Розочки были трудности в общении с детьми из ее школы и общение это обычно заканчивалось ссорами: Розочка очень возмущалась по поводу одноклассников, которые, по ее словам, были «так ужасно тупы».
После этого послеобеденного визита мы с братом на протяжении нескольких лет часто заходили к Розочке и Салли, да и Розочка регулярно была у нас в гостях и даже оставалась пару раз ночевать. В моей памяти не осталось подробностей внешнего вида дома на Линнаюспарквех, помню только, что там была длинная темная лестница, а во всем доме — совершенно невероятное количество подушечек, ковриков, настенных вышивок, множество кукол в славянских народных одеждах и других произведений восточноевропейского народного искусства вроде круглых, украшенных выжженными цветными изображениями лаковых шкатулок, которые кошмарно скрипели, когда откручиваешь крышку, зато внутри они потрясающе пахли точеными карандашами, хотя лежала там обычно пара погашенных почтовых марок да сломанная запонка.
Салли была маленькой и пухленькой женщиной (из одежды она предпочитала ворсистые свитерки и шотландские клетчатые юбки из толстой ткани, будто хотела подчеркнуть особенности своей фигуры), у нее было несколько стальных или серебряных зубов, которые можно было пересчитать, как только она открывала рот, говорила она с примечательным, совершенно не нидерландским акцентом и всегда готова была что-нибудь приготовить поесть или попить. Она была настолько же щедра и радушна, насколько глупа. Разговаривать она могла только о том, сколько обмана и подделок встречается в самых разных жизненно важных продуктах: в масле обычно содержатся недоброкачественные минеральные или даже «химические» жиры, в муку подмешивают большое количество мела или земли, хлеб напичкан молотой соломой, а мясо, которое уже давно испортилось, с помощью консервирующих средств выдают за свежее и кровавое. От «развесного» мороженого можно просто умереть, так же как и от штучного, упакованного, если есть его без счету. В булках, если ты не знаком с булочником лично (будто это что-то меняет), наверняка содержится куча всякой заразы (при этом она суеверно верила в то, что есть существенная разница между частниками и мелкими оптовиками), а для приготовления начинки шоколадных конфет используют дешевые ядовитые красители. (Помню, несмотря на то, что Салли была всегда добра и щедра, однажды, когда мы — то есть Розочка, мой брат, я и Салли — были в большом загородном кафе на Крёйслаан, она попросила официанта забрать четыре порции розового, упакованного в фольгу мороженого, потому что «оно отдавало чернилами».)
Примечательно, что ее бдительность в этом отношении, и это я хорошо помню, никогда не отдавала горечью или злостью, но приобретала лишь жизнерадостный характер борьбы: она была не только добродушной, но и слишком неорганизованной для того, чтобы хоть как-то систематизировать подобное состязание с жизнью. Она не вмешивалась в наши занятия, пока не доходило до физических повреждений или ссор. Играли мы обычно на веранде на задворках дома; сначала мы развлекались тем, что выдували мыльные пузыри, а через некоторое время начинали бросать в соседние — длинные и довольно ухоженные — сады бумажные самолетики или кусочки угля. День рождения Розочки приходился как раз на День Рождения Королевы,[213] в честь которой нижние жильцы обычно украшали деревья и заборы бумажными лентами, гирляндами и серпантином. И каждый год мы развлекались тем, что с помощью веревки с крючком подтягивали серпантин наверх и скручивали его. Серпантин образовывал полукруги, которые мы фиксировали на подоконнике стаканом с водой, и получались «горшки» с тремя или четырьмя ножками, такое вот у нас было детство; кажется, сейчас подобные развлечения не очень популярны. Соседи снизу протестовали, но Салли не обращала на них внимания. По прошествии двух или трех дней рождения Розочки от владельца дома пришло заказное письмо с предупреждением, которое, видимо, произвело на Салли впечатление, потому что серпантиновая рыбалка с тех пор была запрещена.
Об отце Розочки, то есть о Пауле (или, вообщето, Сауле), я мало что могу рассказать, более того, я даже не помню, снизошел ли он до нас и сказал ли хоть слово за все эти годы. Я его боялся. Мы за ним часто наблюдали, когда он сидел за столом в углу кухни или в маленькой боковой комнатке, окно которой выходило на веранду, где Салли подавала ему в неимоверном количестве еду, — мужик с синеватым лицом и ртом, похожим на коровье влагалище. В его способе принятия пищи было что-то аморальное — я не могу передать это другим словом. Дома нас не учили правильным манерам поведения за столом, я до сих пор их не освоил и, если я сам себя не контролирую, что стоит мне неимоверных усилий, то ем жадно, урча и дуя на пищу. (Но при этом меня можно назвать проглотом или лишенцем, но ни в коем случае не чревоугодником.) Я даже не могу сказать, что он ел слишком торопливо или причмокивая — хотя, наверное, и такое определение можно к нему применить, — не это внушало мне такой ужас (как будто я подсматривал за неким развратником) и ненависть (в которой мне трудно было признаться даже самому себе), но нечто совсем иное. На лице мужчины читалось отвращение, недоверие, и, главное, ненависть ко всему вообще и к еде в частности: ненасытная брезгливость (опять не могу найти более подходящего описания), с которой он даже не закидывал пищу внутрь и не брал ее губами, а, скорее, зачерпывал в глотку, грозное замедление жевательных движений, если ему попадались в блюде неизвестные пряности; и посвистывание — издевательское, почти бесшумное посвистывание — его дыхания. Он ел даже не как кошка или собака, потому что те едят очень аккуратно, и не со спокойным усердием птицы, но подобно неизвестному животному, которое, даже пожирая убитую им добычу, все еще продолжает ее ненавидеть.
Позже мне даже подумалось, что этот человек, если бы он когда-нибудь пришел к власти, не удовлетворился бы простым уничтожением своих соперников, но и семьи их сгноил бы в лагерях. Нидерландские «рабочие массы» (кто же это все-таки?), к счастью, все еще находятся в безопасной хватке «воинствующей клики интернациональных капиталистических монополистов», и, в числе других, благодаря этому отрадному факту, я, а также практически все нидерландские писатели, поэты и люди, занимающиеся гуманитарными науками, все еще живы.
Когда семья Де Г. переехала на другую квартиру, на Юг, мало-помалу наши встречи случались все реже, а потом и вовсе сошли на нет. Я приходил к ним в гости на новое место жительства, но почти не помню этих посещений. В школе дела Розочки — из-за переезда, из-за того, что теперь нужно было далеко ездить, да и, скорее всего, по другим причинам — пошли еще хуже, насколько я помню. Были ли ее одноклассники все еще «так ужасно тупы», не знаю, но то, что Розочка проводила с ними меньше времени, это точно. Как и то, что необходимо было найти какое-то решение этой проблемы, впрочем, «Паул» уже предпринимал определенные шаги, чтобы Розочка смогла закончить свое образование в Москве. Не припомню, должна ли была Салли ехать вместе с ней. Да это уже и неважно, потому что жизнь повернула все по-другому. Они на самом деле выехали вместе в сторону Москвы, но, проделав всего две трети пути, закончили свое путешествие в газовой камере одного из польских лагерей смерти.
Вышеописанное, может быть, звучит резковато, но я не вижу причин описывать то, что вызывает во мне лишь чувство горечи, менее резкими словами. Мясники-недоучки, которые называют свою организацию «повитухой истории», опять обвинят меня в том, что я нахожу смерть Салли и Розочки в газовой камере чем-то замечательным и комичным. Нет, я так не считаю, я нахожу все это совершенно непостижимым, оглушающим и кошмарным. И если они станут утверждать, а они непременно так и сделают, что я хотел лишь запятнать их память, то Бог мне свидетель — у меня и в мыслях этого не было. (Будто мало мне мертвых и демонов, что еще до наступления темноты, напустив тумана, переодетые поставщиками с корзинами в руках, приходят и болтаются вокруг дома. Голоса. Иногда свет.) Розочка и Салли были не более нелепы, чем вы или я, да или все живое, что кишмя кишит на тверди земной в полной уверенности, что обладает каким-то знанием. Упокой Господи их души.