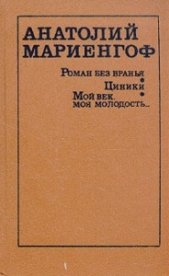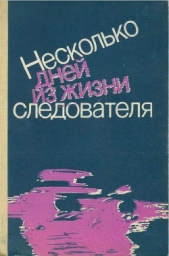Как несколько дней

Как несколько дней читать книгу онлайн
Всемирно известный израильский прозаик Меир Шалев принадлежит к третьему поколению переселенцев, прибывших в Палестину из России в начале XX века. Блестящий полемист, острослов и мастер парадокса, много лет вел программы на израильском радио и телевидении, держит сатирическую колонку в ведущей израильской газете «Едиот ахронот». Писательский успех Шалеву принесла книга «Русский роман». Вслед за ней в России были изданы «Эсав», «В доме своем в пустыне», пересказ Ветхого Завета «Библия сегодня». Роман «Как несколько дней…» — драматическая история из жизни первых еврейских поселенцев в Палестине о любви трех мужчин к одной женщине, рассказанная сыном троих отцов, которого мать наделила необыкновенным именем, охраняющим его от Ангела Смерти. Журналисты в Италии и Франции, где Шалев собрал целую коллекцию литературных премий, назвали его «Вуди Алленом из Иудейской пустыни», а «New York Times Book Review» сравнил его с Маркесом за умение «создать целый мир, наполненный удивительными событиями и прекрасными фантазиями»…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Тебе не нужны часы на руку, Зейде, — посмотри, сколько часов вокруг, — говорила мама.
Каждый крестьянин может сказать, какой сейчас месяц, по беззвучным молниям осени и весеннему цветению садов. Но я способен прочесть время по расцветке старых, почерневших вороньих гнезд и по встопорщенным перьям взрослеющих вороньих птенцов.
«Деревня — это комната, сплошь уставленная часами», — писал я Номи в Иерусалим, напомнить ей, чтобы она не забывала.
А она писала мне, что у нее есть только одни часы: религиозный молочник, который каждое утро ровно в четверть седьмого появляется в их квартале, постанывая, толкает перед собой тележку с бидонами и возвещает о своем товаре тремя протяжными усталыми гласными: «Мооо-лооо-кооо!» — которые долго звенят в узком проеме лестничной клетки.
А несколько недель назад я написал ей о нашем обветшавшем Народном доме, этих огромных часах, свидетельствующих о смене времен мощью сухого плюща, запеленавшего его стены, семисвечником[55], что украшает крышу своими обломками, голубями, которые угнездились в углах его зала.
Ласточки то и дело влетают через вентиляционные колодцы, чтобы покормить своих птенцов, а в старой кинобудке разит совиным пометом. Это не часы со стрелками и не песочные часы. Часы слипшихся пластов — вот что это такое, и время они отмеряют толщиной засохших птичьих испражнений, коркой ржавчины на перилах балкона да простынями скопившейся на полу пыли, в которых гусеницы муравьиного льва высверливают свои скользкие смертельные воронки.
Все двери и окна давно заколочены, но кое-где доски уже взломаны, и когда я захожу туда и жду, пока глаза привыкнут к темноте, мне в нос ударяет тонкий, омерзительный запах человечьего кала и бесчестья. Усталость наваливается на меня, я присаживаюсь на один из загаженных стульев, и резкий скрип дерева пробуждает громкое встревоженное хлопанье крыльев в темной пустоте.
Однажды я спугнул тут Деревенского Папиша. Он тоже иногда навещает Народный дом — пробирается внутрь, топчется по голубиному помету, бормочет в темноте свои бормотанья да вздыхает теми старческими вздохами, что разрывают сердце и увечат тело. Всего несколько лет назад здесь состоялось последнее представление, и Папиш, так я писал Номи, «выдал один из лучших своих номеров». Выступала театральная группа из города, и молодая актриса, прославленная красота которой собрала в деревню молодежь со всей Долины, — та особая красота, которая заставляет таять, не вызывая ни вожделения, ни любви, одно лишь желание оплодотворить и умереть, — вышла на сцену походкой этакой богини, в минуту благодушия снизошедшей до того, чтобы появиться перед своими поклонниками.
И тут Деревенский Папиш вскочил, — а он уже очень стар, и ему тяжело подниматься, — крикнул, яростно и громко:
— А у нас, госпожа теледевица, жила в свое время Ривка Шейнфельд, так она была намного красивее тебя! — и тут же вышел из зала.
Он злился на односельчан, допустивших разрушение Народного дома, и на Якова он злился, потому что «это из-за его любви к Юдит Ривка покинула деревню и забрала с собой всю свою красоту, оставив нас ковыряться в нашем грязном уродстве».
И тот дом, что в свое время был жилищем Якоби и Якубы, а потом домом альбиноса, тоже уже лежит в развалинах. Ветры и дожди съели его крышу, черви и росы проели его доски, а то, что не выпарило солнце, поглотила земля. Все видели, что дом становится все меньше и меньше, а когда он совсем врос в землю, одни лишь анемоны, что росли там, остались свидетелями его былого существования.
Но пристройка, которую альбинос соорудил для своих канареек и завещал Якову, все еще стоит. Никто уже не наполняет в ней кормушки и поилки, клетки и дверь всегда открыты нараспашку, так что канарейки вылетают и возвращаются, когда хотят, и Яков тоже не заглядывает сюда навестить свое прошлое.
— По утрам и вечерам, — сказал я, — время движется медленней всего.
— Это оно тормозит на поворотах, — засмеялся Одед. — Чтобы мир не перевернулся.
Мы приближались к повороту в деревню. Одед переключил скорость. Его ноги танцевали на больших педалях, а машина кряхтела и подрагивала в ответ.
— Ну вот. Вернулись. — Он сделал плавный поворот и стал спускаться по узкому въезду.
Когда-то это был проселок. Летом колеса и копыта перемалывали его в пыль, а зимой все превращалось в темное, липкое месиво. Потом его замостили обломками измельченного базальта, привезенного с гор, а когда он чуть раздался, превратили в узкую, прямую асфальтовую дорогу, длиной километра полтора, и теперь казуарины собирают пыль на ее обочинах.
На перекрестке, сбоку, там, где расположена автобусная остановка, — просто небольшой жестяной навес и железный столб с табличкой, — на бетонной скамейке сидел Яков Шейнфельд: маленькая, сморщенная мумия любви в синих брюках и белой хлопчатобумажной рубашке. В тени деревьев стояло его постоянное такси, водитель спал на заднем сиденье.
Одед затормозил, заглушил мотор, и в наши уши вошла тишина. Он высунул голову из окна и крикнул:
— Как дела, Шейнфельд?
— Заходите, заходите, друзья, спасибо, что пришли, заходите… — сказал Яков с приветливостью жениха под хупой[56].
— А где же невеста, Шейнфельд? — крикнул Одед.
Но глаза Якова только скользнули по нашим лицам, и его блуждающий взгляд потух.
— Погляди на него, — повторил Одед свой приговор. — Будь это лошадь, ее давно бы следовало пристрелить.
По дороге промчалась зеленая машина.
— Заходите, заходите… — сказал ей Яков. — Заходите, у нас сегодня свадьба.
Он улыбнулся, приветливо кивнув ей головой, а потом снова уставился на дорогу и больше уже не обращал на нас никакого внимания.
6
Даже лжецам известно, что правда и выдумка вовсе не враждуют друг с дружкой. Как добрые соседки, они регулярно справляются одна у другой, как дела, и одалживают одна другой все, что понадобится.
Это сказал мне когда-то Меир — не помню, в какой связи, — а потом улыбнулся и добавил, что ложь и выдумка — это не север и юг, а скорее полюс магнитный и географический полюс.
Я заговорил об этом, чтобы объяснить, что вовсе не намерен придумывать или утаивать что-либо в своей истории. Я ничего не намерен растолковывать, маскировать или воссоздавать заново. Вся моя цель — придать этой истории порядок: провести борозду, предназначенную для копыт быка, проложить русло для потока, залить бетоном тротуары, чтобы ноги знали, куда идти.
И всякий раз, когда я чувствую отвращение к тому хаосу, над которым обречен парить, и мне становятся ненавистны пропасти предположений и ветры догадок, я ищу утешения в удивительных цепочках мелких событий. Скажем, в такой, что тот странный человек, который купил пять черных костюмов умершего альбиноса, несколько месяцев спустя вдруг снова появился в деревне, молча вошел в помещение деревенского комитета и выложил на стол пять записок, которые обнаружил в пяти внутренних карманах купленных им костюмов. На каждом из листков было написано: «Птицы — Якову».
Шейнфельда вызвали в комитет. Хотя он ухаживал за канарейками со дня смерти альбиноса, сердце его стучало, как молот, сильно, радостно и тревожно. Не сказав ни слова, он пошел к своим канарейкам, а оттуда к себе домой, лег на кровать, как был, в одежде, и проснулся только назавтра в полдень, когда Ривка разбудила его первым криком, вырвавшимся у нее со дня их свадьбы, требуя, чтобы он объяснил ей, что случилось.
Яков поднял на нее глаза, прежний прозрачный блеск которых скрыла шероховатая пелена, непроницаемая, как штукатурка, и ровным голосом сообщил, что альбинос завещал ему своих бедных птиц и отныне он стал их хозяином.
Какое-то мгновение самой красивой женщине деревни хотелось броситься на пол и закричать, но она тотчас почувствовала, будто чья-то неведомая рука подхватила ее под спину и выпрямила ее колени. Ее уму разом разъяснились все загадки, которые давно разгадала ее душа: бессонница мужа, его вздохи, его преданность этим дурацким канарейкам, пение которых, признаемся честно, совсем не так уж ласкает человеческий слух.