Дверь в глазу
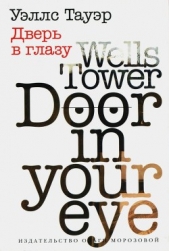
Дверь в глазу читать книгу онлайн
Главные герои рассказов молодого американского прозаика Уэллса Тауэра люди на грани нервного срыва. Они сами загоняют себя в тупик, выбраться из которою им по силам, но они не всегда этого хотят. Героев Тауэра не покидает ощущение постоянной тревоги и постоянной надежды на сопереживание. Проза Тауэра — это то и дело возникающие комические ситуации, неожиданно сменяющиеся ощущением чего-то ужасного. У Тауэра новая американская малая проза приобрела и новый язык — яркий, отточенный и хлесткий. Благодаря этому симбиозу Уэллса Тауэра сегодня называют «следующим лучшим писателем Америки».
Уэллса Тауэра литературные критики называют «следующим лучшим писателем Америки». Дважды лауреат Pushcart Prize и обладатель премии журнала The Paris Review Тауэр начал свою писательскую карьеру с публикаций в The New Yorker, Harper's magazine, GQ, The Paris Review и The Washington Post Magazine. В сборник «Дверь в глазу» вошло девять рассказов молодого американца, который заново открывает жанр малой прозы. Тауэра сравнивают с Сэлинджером, Капоте и Кизи, ведь вслед за ними он рассказывает о тупиковых и трагических ситуациях, о людях, которые ждут не материальных благ, а тепла и сочувствия. «В мире столько безысходности, — говорит Тауэр, — что в моих рассказах не может не быть теплоты». Вместе с тем Тауэр пытается разобраться в том, что побуждает людей не противиться злу, скрывать свои чувства и лицемерить.
Язык уэллса тауэра столь же выразительный и рельефный, как тело борца.
San Francisco Chronicle
Проза Тауэра — отличное напоминание о том, что одна из главных задач писателя — знакомить читателя с новыми мирами.
Los Angeles Times
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но шли дни, и погода все больше портилась. Пила следила за небом, и грусть в ней набухала, как всегда, когда мне предстояло уплыть. Иные дни она меня ругала, а иные — обнимала меня и плакала.
И как-то поздно ночью, ближе к рассвету, выпал град. Он налетел вдруг, со скрежетом, какой бывает, когда киль заскребет по камням. Мы сидели, укрывшись овчинами, и я шепотом говорил ей успокоительные слова, чтобы заглушить этот шум.
Солнце еще не поднялось, когда пришел Дьярф и постучался. Я встал, прошел по полу, мокрому от холодной росы. Дьярф стоял перед дверью в кольчуге, со щитом и дышал так, будто бежал всю дорогу. Он бросил к моим ногам горсть града.
— День настал, — сказал он с шальной ухмылкой. — Надо отправляться.
Конечно, я мог сказать ему: «Спасибо, обойдусь», — но если ты отказался от одного дела, будь доволен, если позовут когда в торговую охрану на слабое жалованье. Мне надо было думать и о нас с Пилой, и о малышах, которых можем произвести. Но ей все равно не хотелось об этом слышать. Когда я опять залез в постель, она укрылась с головой, чтобы я подумал, что она сердится, а не плачет.
Когда мы отчалили, по небу неслись низкие тучи. Нас было тридцать на борту. Гнут греб со мною на носу, а сзади сидело много других, с которыми мне уже случалось плавать. Кое-кто из их родных пришел провожать. Эрл Стендер испортил всю музыку — он махал сыну, а тот стоял на берегу и махал в ответ. Он был маленький, лет четырех-пяти, если не меньше, стоял без штанов и держал на кожаном поводке молочного поросенка. Кое-кто на корабле был немногим старше — буйные малолетки, такие не сведущие в жизни, что руку тебе пожать или ножом пырнуть — им все одно.
Гнут был сам не свой от радости. Он смеялся, пел, сильно работал веслом — я только руки держал на рукояти для вида. Я уже скучал по Пиле. Смотрел на берег — искал ее рыжие волосы. Она не пришла провожать на берег — от злости и печали, что я ухожу, не вылезла из постели. Но я все равно ее искал; земля с каждым гребком удалялась. Если Гнут и понимал мое огорчение, то не сказал. Он толкал меня локтем, шутил и без умолку, весело, надоедливо болтал о чем-то, словно это мы вдвоем устроили себе отдельную прогулку.
Дьярф стоял по обыкновению на носу, с красной рожей. Хорошее настроение с него не сходило. Шлезвигские без всякого повода могут запеть, их страсть к музыке может сравниться только с безобразием их пения. Он орал балладу часами, кодла малолетних костогрызов подвывала ему и никому не давала покоя.
Через три дня солнце пробилось сквозь грязные тучи и разлило по морю стальной блеск. Оно запекло соль на нашей одежде, все высохли и повеселели. У меня копошилась мысль, что, если Наддод такой сильный, как мы думали, это плавание было бы хорошим поводом вызвать бурю и утопить нас, как котят. Но погода держалась, море было спокойным и сонным.
Тут темнело по вечерам раньше, чем дома, и спать под открытым небом без ночного солнца было легче. Мы с Гнутом спали, где гребли, и ползали друг по другу, поудобнее устраиваясь на скамье. Однажды ночью я проснулся: Гнут спал крепким сном, лопотал, пускал слюни и грубо обнимал меня. Я пробовал его оторвать, но он был здоровенный, и его жесткие руки держали меня крепко, словно приросли ко мне. Я его ткнул и заорал, но верзила не хотел просыпаться, поэтому я немного поизвивался, чтобы хватка была не такая крепкая, ребра не трещали, — и опять уснул.
После я рассказал ему, что было.
— Все это брехня какая-то, — сказал он, и его широкое лицо сделалось красным.
— Хорошо бы, если так, — я сказал. — Но у меня синяки, могу показать. Слушай, если я когда попрошусь к тебе в подружки, сделай милость, не напоминай мне про эту ночь.
Он совсем расстроился.
— Иди к черту, Харальд. Ты не остроумный. Никто не считает тебя остроумным.
— Извини, — сказал я. — Похоже, ты сильно отвык иметь около себя тело ночью.
Он на секунду остановил весло.
— Ну, отвык — и что?
С попутным ветром, надувавшим наши паруса, мы шли быстро, и остров показался на шесть дней раньше. Первым его заметил один из костогрызов и, когда заметил, дал всем знать протяжным, противным боевым кличем. Он вытащил меч и начал писать им восьмерки над головой так, что все вокруг отпрянули к планширам. Парень был сволочной, с лицом стервятника, и прыщей больше, чем волосков в бороде. Я видел его там, у нас. У него к ремню были привязаны три отрубленных почернелых больших пальца.
Хокон Гокстад посмотрел на него с кормы злым взглядом. За спиной у Хокона было больше походов и набегов, чем у всех у нас вместе взятых. Он был старый, с больными костями и сидел за рулем: во-первых, он чувствовал приливные течения по тому, как кровь двигалась у него в руках, а во-вторых, его старые руки плохо годились для гребли.
— Опусти свою жопу на скамью, молодой человек, — сказал Хокон парню. — Отсюда дотуда нам двенадцать часов ходу.
Парень покраснел. Опустил меч. Посмотрел на дружков — узнать, унизили ли его перед ними и, если унизили, что надо делать. Вся команда на него глядела. Даже Дьярф прервал свою песню. Другой парень на его скамье шепнул что-то и отскочил в сторону, а этот взялся за весло, гребля и болтовня возобновились.
Можно сказать, что эти люди на Линдисфарне были глупы: поселились на маленьком островке без высоких скал, без порядочной естественной защиты и так близко к нам, и к шведам, и к норвежцам, что никак нельзя было нам, чтобы не сделать на них набег время от времени и не пограбить. Но, когда мы вошли в голубой заливчик, все притихли. Даже костогрызы бросили лапать друг друга и стали смотреть.
На острове раскинулись поля фиолетового чертополоха, и, когда дул ветер, они дергались и шли волнами, как шкура какого-то сказочного животного во сне. Склоны были покрыты широкими красными заплатами полевых цветов. Вдоль берега росли яблони, и было что-то печальное в том, как низко гнулись ветви от тяжести плодов. Мы видели человека, двигавшегося к группе зеленых домиков; за ним шел нагруженный осел. На дальнем холме вырисовывались очертания монастыря, все еще без крыши, после того как мы сожгли его в прошлый раз. Это было красивое строение, и я надеялся, что там еще найдется интересная пожива, когда мы сойдем с корабля и разворотим его.
Мы собрались на берегу; Дьярф уже был в пене. Он сделал несколько приседаний, встал перед нами и принял несколько поз, скрипя суставами и разминая затекшие мышцы. Потом он закрыл глаза и молча сказал молитву. Глаза его еще были закрыты, когда показался человек в длинной рясе, пробиравшийся сквозь чертополох.
Хокон Гокстад держал палец во рту, там, где у него не было зуба. Он вынул палец и сплюнул через дыру. Он кивнул на холм, откуда спускался к нам человек.
— Ишь, сукин сын, какой храбрый, — сказал он.
Человек подошел прямо к Дьярфу. Он остановился перед ним и откинул капюшон. Жидкие волосы на его черепе, наверное, были желтыми до того, как стали белыми. Он был старый, морщины на лице как будто прорезаны острием кинжала.
— Наддод, — сказал Дьярф, слегка кивнув. — Думаю, ты ожидал нас.
— Никак не ожидал, — сказал Наддод. Он поднес руку к грубому деревянному кресту на груди. — Не буду любезничать с тобой и делать вид, что это чересчур приятная неожиданность. По правде, тут мало чего осталось грабить, так что это немного загадочно.
— Угу, — сказал Дьярф. — Ничего не можешь рассказать нам про бурю с градом, про саранчу и всякое такое говно и про то, откуда чертовы драконы прилетают, так что у всех жены писаются от страха. Ни о чем таком ты не знаешь.
Наддод поднял вверх ладони и благочестиво улыбнулся.
— Нет, очень жаль, но я не знаю. Мы, да, наслали обезьянью оспу на испанский гарнизон в Мач-Уэнлоке, но в вашу сторону, честно, ничего.
Дьярф переменил тон, заговорил громко и дружелюбно.
— Ну, уже кое-что. — Он повернулся к нам и поднял руки. — Ребята, неприятно вам это сообщать, но кто-то тут сильно гадит. Старина Наддод говорит, что не он, но, как только он скажет, кто, черт возьми, стоит за нашими неприятностями, мы погрузимся и двинем дальше.

























