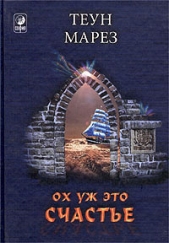Беглец из рая

Беглец из рая читать книгу онлайн
В новой книге известного русского писателя В.В.Личутина – автора исторических произведений "Скитальцы", трилогии "Раскол" – продолжается тема романов "Любостай" и "Миледи Ротман" о мятущейся душе интеллигента, о поисках своего места в современной России. Это – тот же раскол и в душах людей, и в жизни...
Неустроенность, потерянность исконных природных корней, своей "родовы", глубокий психологический надлом одних и нравственная деградация на фоне видимого благополучия и денежного довольства других...
Автор свойственным ему неповторимым, сочным, "личутинским" языком создает образ героя, не нашедшего своего места в новых исторических реалиях, но стремящегося сохранить незапятнанной душу и любящее сердце способное откликаться на чужую боль и социальную несправедливость, сердце, вопреки всему жаждущее любви, нежности, человеческого тепла и взаимопонимания. Сколько суждено ему страдать, какие потери пережить, узнает нынешний читатель.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– А с твоим-то что? Опять галит?
– Грозится убить или деревню спалить... Ты бы, Павел Петрович, пособил чем. Ступай к злодею, останови от греха. Он тебя слушается... Ты у нас духовный человек.
«Как же, послушает... Гаврош даже Бога не чтит. Если сбесился, так с ним и прокурор не совладает, – подумал я, с неохотой отрываясь от дивана. – Как до дела коснется, сразу ты всем хорош и лучше тебя нет никого в мире. А в праздник и вино наособицу... Но и как не помочь? После-то клясть себя станешь, да уж поздно... А с другой стороны, вести бесполезную говорильню – уму тупик и душе разор. Это как со стенкой толковать битый час с пустой надеждою, что она отзовется на твои моления».
– Поди, сынок, – спроваживает меня мать. – Грех не помочь. Не помочь в нужную минуту, значит – убить.
Марьюшка изъясняется присловьями. Доморощенный философ, она в простоте сказать не хочет иль не может; по складу природного ума Марьюшка смотрит в сердцевину всякого события, сцепливая его с предыдущим, возникает логическая первосистема на житейском уровне. «Грех не помочь. Не помочь в нужную минуту – значит – убить». Для психолога и мыслителя тут уйма материала.
Соседка ушла от нас, но осталась на заулке, изредка взглядывая на окна: значит, дожидается меня. Вроде и не принуждает больше словами, но своим несчастным видом приневоливает меня, тревожа душу.
Я пью напусто чай. Марьюшка крошит яблоки. Она давно на ногах и уже знает, что случилось на той половине. Дурь в голове смешивается с яблочным приторным духом, и я невольно хмелею, готовый вновь забыться. Это лень раньше меня родилась и сейчас с плеч моих переселилась в голову.
– Они не притягливы, – вдруг говорит мать, не объясняя, в чем ее беспокойство. Сын – профессор, он все поймет без лишних слов. – Когда ли один другого убьет. Вот те крест... Зулус прямой, а Гаврош – горбатый. Их не приставить. И оба без Бога... Ступай, Пашенька, не тяни, пособи Анне.
На улице закропил дожжишко. Стемнилось. Уже осеня на подходе, березняк охватило ржавью, обожгло листву. Ельник на кладбище заугрюмел, а могилки проклюнулись сквозь примятую непогодой траву. Скрипят, раскачиваются полые ворота, не подпертые колом. Вселенная печаль струит на деревню, приманивая на погост жильца.
– Даже маленький дожжишка – лентяю передышка, – говорит Марьюшка с намеком. Я со вздохом натягиваю фуфайку, джинсовую голубую панаму и молча бреду на улицу, как невольник.
– Терпеть надо, а никто не хочет, – бормочет мне вослед Марьюшка. – В последние времена спасется, кто терпит Христа ради...
Я направлялся к Бариновым, полный недовольства и какого-то прокурорского пристрастия. Поднимаясь на крыльцо, придирчивым взглядом нашел, что ступеньки надо поновить, не диво тут и оступиться, испроломить ногу. Коридор был длинный, я, может быть, сотни раз проходил по нему и только сейчас заметил, что половицы щелястые, давно не крашенные, дверь в кладовку висит кое-как, на одной петле, и готова отвалиться; три холодильника, словно бы свезенные со свалки, давно не служат и сейчас заставлены склянками и изжитой посудой; тут же стояли и лежали корчаги и чугуны, старые ведра, телевизоры хрущевской эпохи, корыта, ловушки, ветхие сети – словом, весь тот скарб, который давно пора вытащить за деревню в березовый колок, куда Жабки сносят все, отслужившее свой век. Для старухи эта обыденка давно примелькалась и не заслуживает пристального взгляда, а для Гавроша весь дом – пустое место, времянка для житья, в которой сподобилось жить. Да пусть все горит синим пламенем... Лес, охота, уходящий от погони зверь, заливистый лай собаки, ночной костер под елью, ознобный рассвет, трехдневная щетина на скульях, измозглое от ночевок тело, гудящие, истертые до мозолей ноги, а после – банька, свежие лица охотников, стакашек под жареную лосиную печенку – вот это жизнь, это воля, для этого стоило явиться на белый свет.
Гаврош лежал на печи за пестренькой занавеской. На картине, писанной на клеенке, охотник сзывал в рожок собак, прибежавшая гончая, хитро задрав толстенную лапу, чесала за ухом, на лесной поляне бродили лоси с жирными бабьими ляжками. На голове охотника была тирольская шляпа с пером, сбитая на левое ухо. У двери на лосиной лопасти висела кроличья шапенка егеря Баринова. Сам егерь спрятался за ситцевый клок и притворялся спящим.
– Эй, Артем, голова ломтем, хватит прохлаждаться, к тебе гость, – гулко вскричала Анна, так что колыхнулась занавеска.
– Чего орешь, вражья сила... Заткну глотку кляпом, – вяло отозвался Гаврош, но лица не показал. – Пашка, ты, что ли?
– Какой он тебе Пашка... Павел Петрович – не тебе чета, – поправила сына старуха.
– Один хрен... Что по столу, что об стол. Никому спуску не дам, – забубнил Гаврош, едва совладая с распухшим от перепоя языком. – Если глаз не поправится, подожгу Жабки с двух концов. Пусть скачут в реку. Я вам покажу кузькину мать, заставлю ходить по одной половице... Проклятые колдуньи. Только хлебу перевод...
– Какие тебе колдуньи... Об угол налетел, огоряй. Спьяну-то белого света не видите.
Гаврошу надоело таиться в темноте, он откинул занавеску, свесил вниз голову. Лицо осунулось, еще более стемнело, под левым глазом светил фонарь.
– Ха-ха-ха! – с горечью засмеялась мать. – Как гнилое яблоко...
– А то не знаешь, какие... Захожу вечером к Зулусу, а навстречу старухи. Темно было. Я не признал – кто. Сели за стол, я щеку потрогал, на ней шишка. Потом другая рожа выскочила. Мне страшно стало, Паша. Дьявольская сила встала на моем пути. Зулус надо мной смеется: на, выпей стакашек, и все пройдет. Я выпил, шишки стали меньше и пропали. А потом вдруг под глазом распухло, как бурдюк с вином.
– На угол налетел или подрался? – засомневался я.
– Да нет... Правда, он чуть не застрелил меня. Я ружьё-то ему отдал, он унес в сени. Бутылочку выпили за мировую. Потом слово за слово. Он – права качать. Я ему – геть, не смей так со мною. Я хозяин, у меня все схвачено. Мне только позвать братву из Москвы, мигом прискочат на иномарках полковники, генералы.
– Да будет тебе заливать-то, – недоверчиво перебила мать. Но по глазам видно было, что в душе ее ворохнулся тот испуг, что возникает у крестьян, когда разговор заходит о любых властях, ведь в ком сила – у того и закон.
– Короче, побежал Зулус обратно в сенцы. Он же тряхонутый, у него с головой неладно. Вернулся с ружьем. Говорит: я тебя, Артем, убью. Ты меня сильно обидел. Я ему: да брось ты ерунду молоть, мы же помирились, мировую выпили. Давай лучше еще бутылек. А он свое: нет, я тебя убью, ты мне здорово нагадил. Ну, я неожиданно прыгнул и отвел ружье. Зулус выстрелил и попал в стену. Я говорю: так нечестно. Ты с ружьем, а я безоружный. Вызываю, говорю, тебя на дуэль на кладбище. Выроем две могилы, и с десяти шагов стреляем. Кто готов, чтобы сразу в ямку. И без хлопот. Павел Петрович, будешь у меня секундантом?..
– Завтра поговорим, – уклонился я от прямого ответа. – Сначала протрезвей, чтобы на ногах стоять... Помнишь анекдот про двух дистрофиков? «Няня, закрой фортку, а то меня с горшка сдувает».
– Дурак ты, дурак. И какой леший тебя туда понес? – горестно запричитала Анна. Ее доверчивое сердце сполошилось, она сразу же нарисовала себе горестную картину, как два огоряя ночью роют себе могилы, а после палят из ружей. – Зулус нервенный. Он столько горей перенес, если записать, ни в одну библию не влезут.
– Да они все придурошные... Порода такая... Я еще посмотрю: если глаз откажет, подпалю старух, – грозится Гаврош, часто взглядывая в карманное круглое зеркальце в красной пластмассовой оправе. В какую-то минуту взялось оно в горсти, я и не заприметил. Наверное, до моего прихода лежал с этим глядельцем в сумерках печи и травил самолюбие, изводил натуру.
– Да какие на деревне старухи?.. Аленочка слепая, Фекла хромая да Панечка, которая три года сиднем сидит. Ты, наверное, опился. Это у тебя излияние...
– Я не был пьян...
– Ага! Стукнет в голову. Вот у Раечки было. Полезла в куриное гнездо яйца собирать, и стукнуло, вывернуло половину рожи. Давление. Четыре дня искали, по лесу ходили, кричали. Потерялась баба. А ее уж вздуло... Нашли, лежит клубочком в курятнике, как колобашка, и яйца в фартуке...