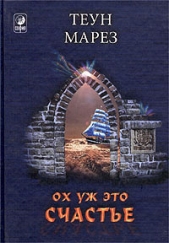Беглец из рая

Беглец из рая читать книгу онлайн
В новой книге известного русского писателя В.В.Личутина – автора исторических произведений "Скитальцы", трилогии "Раскол" – продолжается тема романов "Любостай" и "Миледи Ротман" о мятущейся душе интеллигента, о поисках своего места в современной России. Это – тот же раскол и в душах людей, и в жизни...
Неустроенность, потерянность исконных природных корней, своей "родовы", глубокий психологический надлом одних и нравственная деградация на фоне видимого благополучия и денежного довольства других...
Автор свойственным ему неповторимым, сочным, "личутинским" языком создает образ героя, не нашедшего своего места в новых исторических реалиях, но стремящегося сохранить незапятнанной душу и любящее сердце способное откликаться на чужую боль и социальную несправедливость, сердце, вопреки всему жаждущее любви, нежности, человеческого тепла и взаимопонимания. Сколько суждено ему страдать, какие потери пережить, узнает нынешний читатель.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Сули, сули матери худа. Что бы доброго насулил, чтобы во спокое глазыньки закрыть. – Марьюшка вдруг замглилась лицом, значит, разобиделась, не разобрав шутки и легкого необязательного словца, и вот приняла мои побрехоньки за сущую правду.
Собственно, от истины мои посулы недалеко ночевали. Сколько раз прилаживался к женщинам всем отходчивым доброрадным сердцем, так хотелось прильнуть к милой навсегда, чтобы не рушить больше гнезда и не крыть заново крыши, да всякий раз – не судьба, вдруг напускался на семью такой поганый ветер с севера, что скоро выдувал все душевное тепло, словно в груди и не ночевывало приязни и согласия.
– Опять пластинку заело? – грубо сказал я. – Смени иголку-то...
Марьюшка беспонятливо зарипкала прислеповатыми глазыньками, словно бы их припорошило ветром, и стала жалконькой, как пересохшая былка. Язык-то я прикусил, конечно, но было уже поздно: уйдя в себя, старая ляжет на постелю за ситцевым пологом и, отрешенно уставясь в потолок, будет долго жевать в одиночестве непонятные обиды и перетряхивать черные мысли...
«Одинокий сын, всю жизнь горемычную тряслась за него, и вот вытетешкала перестарка, нынче еще более чужого и непонятного, закорелого и замоховевшего, ни с какого боку не подступись...» – Так размышлял я, словно бы переселившись в измозглую материну плоть. Это кровь родовы во мне говорила, и наши похожие чувства были растворены в ней, так что и признательные слова были излишни. И я мысленно повинился перед Марьюшкой: «Права ты, матушка, права. Чертополох и тот растрясает по мерзлой земле семя, надеясь, что хоть одно да проклюнется». И у самой-то все перевернулось в голове, никаких добрых воспоминаний, остались одни ополоски от пережитого, как и на свет не рожалась, вот и про любовь забылось, только давние отсветы чего-то прекрасного в окрайках памяти, как ночные августовские сполохи, просверки по всему окоему, но ни громишки, ни дожжишки. Вот и заявила нынче Марьюшка, де, любви на свете нет... Но как без любви-то жить? Это же свет белый померкнет средь ясна дня, как при конце света. Значит, и меня мать не любила, и вырос я безлюбый, и эта безлюбость отпечаталась на душе, как тавро на крупе коня. Я не вижу этой проклятой печати, но она растворилась, разлилась в крови.
...И, эх, шалопут, вот поживешь с материно, тогда поймешь, куда вдруг пропадает любовь и что значит она при земной жизни; скоро и сам экий же станешь, как сухостоина в бору, одна болонь корявая, испроточенная червием до самого сердца... и куда любовь твоя тогда поместится? Где ей найти общежитие?
– Ты куда подался без чаю-то? – жалобно спросила Марьюшка, видя, как пропадает за порогом ее кровинка. Но только колыхнулся в ответ тяжелый запон.
– Сама пей, – буркнул я себе под нос.
День прошел, и слава богу, теперь надо долгий одинокий вечер убить.
Как так получилось, что я дорогие, невозвратные часы выпроваживаю за порог, как въедливую сводню иль непростимого врага? Какая, братцы, к лешему наука, когда сердце не на месте, когда маета одолела, будто последние сроки приступили, и всякое предприятие, какое бы ты ни измыслил, лишено всякого толка... С каким смыслом дан мне особый ум?.. Чтобы я кичился им? Иль, видя грядущую невзгодь Руси, страдал за всех непонятливых и уснувших богатырским сном?
День да ночь – сутки прочь. Вроде бы тихая, безмятежная, растительная жизнь в деревне, но коли присмотреться сердечно к буднему потоку, несущему нас, как щепины из-под плотницкого топора, сметенные в реку, то захватит такой круговорот страстей, что впору захлебнуться и потонуть. Писательством, что ли, заняться, а не мастерить голые схемы, которые по защите докторской улягутся кирпичиком в архивный монблан и умрут за ненадобностью, хорошо, если какая-то чудная родственная душа случайно нападет на захороненную папку и, сдунув с листов прах времен, развернет ее, как мумию из саркофага, найдет забытые мысли крайне важными и хотя бы выдаст за свои. Но это так редко случается, чтобы из глубоко захороненной куколки вдруг излетела бабочка...
Шаркая калитками, из хлева выбрела Анна, долго запирала дверцу на замок, как-то неладно вдевала его в проушину, бормотала сама с собою, как бы тронувшаяся умом.
– Хорошая коровка-то была, вечная ей память, – подал я голос в сумерки.
– Ой, кто это? – испуганно вскрикнула старуха, вглядываясь в заулок и, наверное, не узнавая меня.
– Это я, Анна Тихоновна, ваш сосед...
– Ой, Пашенька, это ты? – неожиданно обрадовалась старая. – Ведерница была... Два ведра в день. Теперь и вам-то молочка не пивать, бедные вы мои. Осиротели, вот... Господь покарал, а за какие вины. Чем я так насолила, что наслал Милосердный грозу на меня? Иль судьба моя – до смерти беды считать?
Я промолчал. Да и что мог ответить унывной, чем утешить печальницу? Кощунственно подумать, но по сыну, пожалуй, так не страдала бы она, случись несчастье.
– И мой-то бедило – только рюмки считать. Летом кажинный день праздник, будто в Жабках деньги печатают. И откуль берут только? На хлеб не найдешь, а на водку всегда...
Скрипя ступеньками крыльца, Анна тяжело поднялась в дом. Не дожидаясь приглашения, я зашел следом. Я – думающая машина, а впечатления – топливо для нее. Я – пчелка, кочующая по цветам, и люди – мое разнотравье. Я – тяжеловоз, тянущий поклажу по бездорожице, по снежным тягунам, и люди, прижаливая меня, протаптывают мне хоть слегка облегчающий след...
Гаврош был дома. Он лежал на древнем деревянном диване времен покорения Крыма с высокой резной спинкою, подложив под безмясую спину овчинный кожушок. На груди мостился здоровенный лохматый кошак и урчал под ласковой рукою хозяина. Над диваном висела деревенская пастораль, написанная на клеенке бродячим мазилою: на лесной поляне меж кудреватых берез бродили сытые лоси с отвисшими утробами, а чуть в отдалении, на холмушке, охотник трубил в рожок, сзывал с гона собак... Вот эта картина да, пожалуй, молодая лосиная лопасть, увенчанная кроличьими старыми шапенками, напоминали, что в избе живет егерь – властелин здешних мест.
Завидев меня, Гаврош спихнул с груди кошака, прошел к столу, отпахнул створку окна, высунулся, озирая деревню приметчивым взглядом. Был он в семейных трусах по колени, ноги как остроганные палки. Сплюнул с нижней губы слюнявый присохший окурок и тут же запалил новую «цидулю», отчего-то выдувая чад не на улицу, а в кухню. Потому, как выцвели глаза, как сквасились в ухмылке тонкие губы, я понял, что Гаврош почти трезв, но у него горят трубы, и мужик с тоскою думает, где бы найти стопарик. Словно бы поймав утерянную мысль, Гаврош с ласковой улыбкой повернулся ко мне:
– Павел Петрович, ты умный человек. Под твою дудку вся Москва пляшет.
– А под твою вся деревня плачет, – перебила мать.
– А иди ты, куда пошла! – отмахнулся Гаврош. – Объясни мне, может, я чего не понимаю? Вот Жириновский всем обещал по бабе и по бутылке. Бабы пусть горят синим пламенем... А где обещанная бутылка? То-то... А ты говоришь: гулять будем, плясать будем... Хрущев коммунизм обещал, Горбачев – квартиру, Ельцин – свободу, Гайдар – обжираловку, Чубайс – «Волгу». Сволочи, раздели нас догола, как папуасов, и даже рюмки не поставили... Вот найди чекушку, Паша, и все тебе прощу.
– Ачего меня прощать-то? Я же не под следствием...
– Это я так, для связки слов. У меня, Паша, все схвачено. Я ружье Зулусу привез. Вот думаю, что с него взять: иль один ящик водки, иль два... Эх, упьемся. «Выпьем с горя, где же кружка, сердцу станет веселей». Наш был человек Александр Сергеевич, веселая душа. Тоже любил заложить за воротник. Это у него про красный нос-то, а?
– Бедило ты, бедило, – оборвала сына мать. – Огоряй ты проклятый...
– Да не ори ты. Не глухой. Иди, куда шла, и не мешай умным людям.
Гаврош на ломоть черного хлеба намазал толстым слоем жгучую смесь из чеснока и красного перца: при одном виде подобной еды у меня все стоскнулось внутри и натекла на губы горько-кислая слюна.
– А ты меня не гони. Я тебе мать... Это я могу тебя погнать. В моем дому живешь, огоряй... Это что он творит с собою, Пашенька, – обратилась Анна ко мне, как к третейскому судье. – Он свою судьбу постановил. Он ее подвел под последнюю черту. Был такой огоряй Ельцин, так мой-то с него пример взял. Нет бы с кого доброго. Хоть бы с вас, Павел Петрович. А то пьет и пьет и никак остановиться не может. Тому-то огоряю другое сердце всадили, железное, а мой-то сразу в ямку кувырк... Хоть бы женился, дак жена бы взяла в ежовы рукавицы.