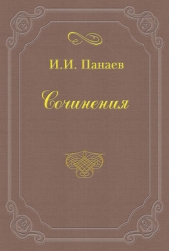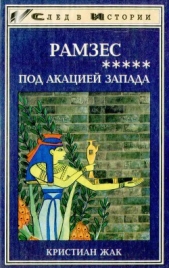Первый арест

Первый арест читать книгу онлайн
Илья Давыдович Константиновский (рум. Ilia Constantinovschi, 21 мая 1913, Вилков Измаильского уезда Бессарабской губернии – 1995, Москва) – русский писатель, драматург и переводчик. Илья Константиновский родился в рыбачьем посаде Вилков Измаильского уезда Бессарабской губернии (ныне – Килийский район Одесской области Украины) в 1913 году. В 1936 году окончил юридический факультет Бухарестского университета. Принимал участие в подпольном коммунистическом движении в Румынии. Печататься начал в 1930 году на румынском языке, в 1940 году перешёл на русский язык. После присоединения Бессарабии к СССР жил в Москве. Первая книжная публикация – сборник очерков «Гитлер в Румынии», вышедший в 1941 году. Член Союза писателей СССР с 1955 года. На протяжении 1960-х годов создал автобиографическую трилогию «Первый арест» (1960), «Возвращение в Бухарест» (1963) и «Цепь» (1969) о подпольном революционном движении 1930-х годов в Румынии. В 1960-1970-е годы в нескольких книгах одним из первых в русской литературе затронул тему Холокоста в Польше и Румынии (см. повесть «Срок давности», 1966). В 1970 году в серии ЖЗЛ опубликовал беллетризованную биографию румынского писателя И.Л. Караджале, чей том избранных произведений в переводах, составлении и с комментариями Ильи Константиновского вышел в 1953 году. Рассказы И.Л. Караджале в переводах И. Константиновского были также включены в том классической румынской литературы, выпущенный издательством «Художественная литература» в серии «Библиотека Всемирной Литературы» в 1975 году. Занимался переводами современной и классической художественной прозы с румынского языка, публиковал литературоведческие статьи по современной румынской литературе в журналах «Звезда», «Новый мир», «Иностранная литература» и других. Произведения: · Первый арест: Повесть. Москва: Советский писатель, 1960 · Возвращение в Бухарест: Роман. Москва: Советский писатель, 1963 · Первый арест: Повесть. Москва: Детская литература, 1965 · Срок давности: Повесть. Москва, 1966 · Цепь: Роман. Москва: Советский писатель, 1969 · Караджале. Серия «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). Москва: Молодая гвардия, 1970[1] · Книга странствий: Путевые очерки. Москва: Советский писатель, 1972 · Первый арест. Возвращение в Бухарест. Москва: Советский писатель, 1975 · Города и судьбы: Документальные рассказы. Москва: Советский писатель, 1979 · Книга памяти: Документальные рассказы. Москва: Советский писатель, 1982 · Время и судьбы: Повести. Москва: Советский писатель, 1988 · Московская улица. Ваша явка обязательна (совместно с Борисом Ямпольским). Москва: Книжная палата, 1990 · Судный день. Исповедь советского еврея (роман). Библиотека «Алия». Иерусалим, 1990 · Как свеча от свечи…: Опыт биографической мысли. Москва: Московский рабочий, 1990 · Тайна земли обетованной. Москва: Библиотека журнала «Огонёк», 1991 (Из проекта "Википедия")
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Воздух был густой и теплый, фланирующая публика поражала нарядными костюмами, ярко начищенной обувью и блеском глаз – нетерпеливым, чего-то ищущим, чего-то ожидающим; женщины смотрели смело, вызывающе, и при свете неоновых ламп скрещивались взгляды, полуулыбки, смешки… Я заглядывал в раскрытые двери кафе, останавливался у сияющих огнями входов в летние рестораны – всюду гремели оркестры, джазовые, струнные, иногда два-три инструмента, подобранные самым неожиданным образом: русские балалайки и аргентинское банджо,румынский цимбал и итальянская окарина… На эстрадах стояли певцы, блистая великолепными фраками с белыми жилетами и белыми галстуками, певицы с обнаженной грудью и сильно подведенными глазами; пели они по-разному, и мелодии были разные, но мужчины одинаково слащаво вытягивали губы, гремя сильными грубыми голосами, а женщины одинаково заученными, неестественными жестами простирали к публике свои белые кукольные руки, о чем-то умоляя, на что-то жалуясь, кого-то упрекая или подбадривая быстрыми, блаженно-нежными переливами… По вечерам исчезала с улиц гигантская армия разносчиков, продавцов мыла и галантереи, оставались только цыганки с корзинами цветов, мальчики с большими стеклянными банками моченых орехов, разносчики газет и папирос. Оставались и нищие, мертвенно-бледные, зеленые, синие, как будто специально размалеванные, молчаливые, застывшие в притворно смиренных позах, с недобрым блеском в глазах… …Вечерами здесь обнажалось все то, что было скрыто днем; беспрерывно зажигающиеся и гаснущие неоновые рекламы освещали все то, что не выносило солнца, и в таинственных шорохах ночи грубо и беззастенчиво звучали слова, которые не принято было произносить при дневном свете. Многого я тогда еще не понимал, о многом только догадывался, но помню, как томило, пугало и раздирало душу зрелище прогуливающихся здесь женщин. Разгуливали они в одиночку, деловито, упорно измеряя шагами ярко освещенные тротуары; были и такие, которые остерегались света, они жались к стенам, переходили от подворотни к подворотне, похожие на темных бабочек, появившихся неведомо откуда и мечущихся теперь в темноте, не в силах оторваться от земли и улететь… Вся накипь, вся грязь, все то, что не фигурировало в справочниках, монографиях и цветных путеводителях по румынскому «маленькому Парижу», появлялось здесь с наступлением темноты, роилось на тротуарах шумного, возбужденного, пахнувшего алкоголем и отчаянием ночного Бухареста.
Все это было для меня далеким, чужим, непонятным и вызывало удивление, страх, иногда ненависть. Но здесь же рядом с «бодегами», барами, игорными притонами я находил и то, в чем было для меня большое очарование. Помню, как я открыл в центре города рядом с набережной удивительно грязной речки Дымбовицы маленькую площадь с деревянными лавками бухарестских букинистов. Все тротуары были заставлены столами, на которых лежали пачки книг, журналов, старинных рукописей.
Я переходил от одного стола к другому, листал пыльные, пахнувшие плесенью издания и томился сладостной грустью воспоминаний: я как бы вернулся вновь к тем счастливым дням, когда таскал книги из старых, опутанных паутиной шкафов бывшего нотариуса Снитовского… Еще больше взволновала меня книжная лавка с библейским названием «Хасефер», где рядом с последними книжками стихов французских футуристов лежали и серо-желтые издания «Едисион сосиаль интернациональ», а на полках, набитых модными романами Лоуренса и порнографическими новеллами Питигрилли, можно было вдруг обнаружить томик Маркса и Энгельса, изданный в берлинском «Арбейтер ферлаг» и даже в Москве. Открыл я эту странную лавку случайно, в каком-то тесном торговом тупике с обувными и шляпными мастерскими и маленькой кофейней, где какие-то подозрительные личности азартно играли в «табле», стучали костяшками и тут же что-то вычисляли на треснутых и покрытых бурыми пятнами, отделанных под мрамор столиках. У «Хасефера» царила иная атмосфера: здесь было просторно, уютно и тихо, как в читальном зале. Хозяин, высокий, великолепно одетый, с голой головой, холеным лицом и холодными надменными глазами, не обращал никакого внимания на случайно забредших сюда покупателей.
Мне потом объяснили, что у него была своя постоянная клиентура: литераторы, художники, эстетствующие богачи и снобы. Сам «господин Хасефер», как назвал я его про себя, не подозревая, что именно так называет его довольно широкий круг людей, считался тонким ценителем модернистской поэзии и живописи, поклонником доктора Герцеля и убежденным противником марксизма. Но это не мешало ему выписывать из-за границы Маркса, Ленина и другую марксистскую литературу, которую нельзя было найти ни в одной книжной лавке. Он любил и книги и деньги, понимал толк не только в декадентской поэзии, но и в торговле. Уже в первое свое посещение, увидав на прилавке томик писем Маркса, я спросил, не найдется ли у него и «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Господин «Хасефер» уставился на меня с таким враждебным любопытством, что я решил ни о чем больше не спрашивать и потихоньку искать на полках то, что меня интересует. Я рыскал по тихой, почти всегда пустой лавке, как голодный, но очень осторожный волк, прячась подальше от холодно-проницательных глаз хозяина, и каждый раз находил здесь что-то такое, что уже одним заглавием, именем автора сулило волнующее наслаждение. Так я нашел и унес с собой «Анти-Дюринг»,
«Тезисы о Фейербахе» в берлинском издании – красный ледериновый переплет с тиснением, портреты Маркса и Энгельса, учебник политэкономии, изданный в Москве, и, наконец, самое неожиданное – «Пятилетний план», русскую книгу, переведенную и изданную в Париже. Первая увиденная мною книга о первой пятилетке Советского Союза! Получив деньги, а сумма была немалая, господин «Хасефер» еще раз окинул меня внимательно-враждебным взглядом и неожиданно вытащил из-под прилавка «Материализм и эмпириокритицизм» на французском языке в московском издании. Эффект был, очевидно, именно тот, на который он рассчитывал. Но цена превышала весь мой капитал, и я, заикаясь и краснея, сказал, что приду в другой раз. Как все было радостно, интересно, когда я шел по городу, держа в руках сверток с еще не разрезанными драгоценными книгами. Я истратил много денег, так много, что страшно было подсчитывать, сколько осталось, но сердце вдруг загорелось новой, дерзкой решимостью: сегодня же, сейчас, не откладывая, посмотреть звуковой фильм!
Я давно собирался это сделать. Звуковое кино было новшеством, и билет стоил, по моим понятиям, не дешево, но теперь я над этим не задумывался и кинулся к билетной кассе. …Я всегда любил кино. Я любил мгновение, когда гаснул свет и на матово-белом экране начинался неправдоподобно быстрый, волшебный бег теней; любил дергающиеся, как манекены, фигурки людей в котелках, гоняющихся друг за другом с тросточками и револьверами, мазавших друг другу лица дегтем и пирожным кремом; любил и бешено скачущих ковбоев, и непрерывно стреляющих сыщиков, и колонну мяса с заплывшими глазами, именуемую Мацистом, который пробивал кулаком стены под аккомпанемент грустного вальса «Осенний сон»; я любил все это несмотря на то, что считал немножко стыдным после чтения Шопенгауэра и Макса Нордау развлекаться подобными глупостями, и даже пробовал несколько раз, чтобы доказать себе, что я выше всего этого, уходить с сеанса перед самым концом, когда сыщики уже окружали с трудом выслеженного бандита и готовились начать стрельбу. Стоя теперь у окошка звукового кино, я протянул деньги дрожащими, холодеющими руками. Как все это будет выглядеть без тапера и без привычных аккордов «Осеннего сна»?
В Бухаресте показывали тогда один из первых звуковых фильмов – «Жанин». Я попал на картину посредине сеанса – здесь можно было входить и выходить беспрерывно, и я не запомнил сюжета. Но это было и невозможно: с первого мгновения меня оглушил каскад звуков, громкие раскаты мощного невидимого оркестра, страшный механический треск… Жанин была красивой девушкой, которая любила красивого летчика, и летчик любил ее, но все это носило служебный, второстепенный характер. Главное было в звуковом аккомпанементе: на экране появлялся самолет, и зритель слышал, как заводили мотор, как самолет гудел в воздухе, как в него стреляли и как он падал и взрывался с оглушительным грохотом. Каждый кадр был задуман и снят специально для того, чтобы зритель услышал какой-нибудь звук. Смотрите, верней слушайте: вот как звучит взрыв снаряда, а вот как мяукает кошка; мы все можем воспроизвести: гром, шелест ветра, и бульканье воды в стакане, и хрип умирающего – все звуки, как настоящие, но только в два-три раза сильнее, слушайте и убеждайтесь… И зрители слушали треск и гул, способный разбудить мертвого, убеждались и выходили из кино с головной болью. Но все же это было прекрасно, и я чувствовал себя в этот день совершенно счастливым. В голове путались беспорядочные, восторженные мысли о волшебной силе науки, о том, как хорошо жителям Бухареста – у них есть возможность видеть все самое новое, самое интересное…