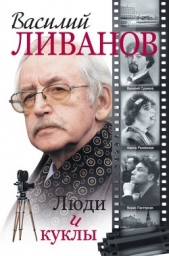Гомер и Лэнгли

Гомер и Лэнгли читать книгу онлайн
Роман «Гомер и Лэнгли» — своего рода литературный эксперимент. У героев романа — братьев Гомера и Лэнгли — были реальные прототипы: братья Кольеры, чья история в свое время наделала в Америке много шума. Братья добровольно отказались от благ цивилизации, сделались добровольными затворниками и превратили собственный дом в свалку — их патологическим пристрастием стал сбор мусора.
Казалось бы, это история для бульварных СМИ. Но Доктороу, которого, по его словам, эта история заинтересовала еще когда он был подростком, удалось сделать из нее роман о любви — любви двух братьев, которым никто не нужен, кроме друг друга, и которые были столь напуганы окружающей действительностью, всеми ужасами XX века, что не захотели жить в «большом мире», выстроив собственный мир, где не было места чужим.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но однажды, уже ночью, пытаясь уснуть, я вспомнил кое-что из сказанного Лэнгли. Он сказал, что все живое воюет. Я раздумывал, не ведет ли убывание моих чувств, даже при том страхе, которого я натерпелся от того, что разбухающее сознание понемногу вытесняет мир вне моего разума, — возможно ли, что я становлюсь все более и более неведающим о нашем положении, о размахе этой правды, от наихудших из образов и звуков которой меня ограждает моя неспособность их ощутить. Поразмыслив, я понял, то, что дети забрасывали камнями наш особняк — вовсе не эпизод, не имеющий отношения к нашим главным проблемам: растущей изоляции, утрате в результате наших собственных или чужих действий благ городской цивилизации (водопровода, я имею в виду, газа и электричества) и пребыванию в кольце враждебности, исходящей отовсюду — от соседей до кредиторов, от прессы, муниципальных властей и, наконец, от будущего (ведь именно им и были эти дети), — нет, это не какой-то пустяк, если хотите, это был самый сокрушительный удар из всех. Ведь что может быть ужаснее, чем обратиться в мифическую шутку? Ведь когда мы умрем, не будет никого, кто восстановил бы нашу историю? Мы с братом сходили на нет, и он, лишенный легких и полубезумный, понимал это лучше меня. Каждый наш акт противоборства и опоры на собственные силы, каждый образец нашей изобретательности и решительного выражения наших принципов служил нашему разрушению. А он, помимо этого, еще и нес бремя заботы о становящемся все более беспомощным брате. Значит, я ни за что не упрекну его за паранойю той зимы, когда он стал создавать из скопившихся за всю нашу жизнь в особняке материалов (как если бы все в нем было собрано в ответ на некое пророческое откровение) средства защиты нашего последнего рубежа.
В былые дни был еще один поэт, которого любил цитировать брат: «Я это я, и ни черта мне с этим не поделать!.. Я в святости погряз, исследуя все то, что бесполезно».
Моим же ответом стало большее усердие в каждодневном писательстве. Я — Гомер Кольер, и Жаклин Ру — моя муза. Пусть в ущербном моем состоянии я и не уверен, вернется ли она когда-нибудь, как обещала, или мне всего лишь нужно подумать о ней, чтобы приступить к письму, делу, по своей неподъемности сравнимому с газетой Лэнгли. В данный момент я не уверен ни в чем: что мне грезится, что вспоминается — только она все же вернулась, я почти уверен в этом, или, скажем так, она вернулась, и я встретил ее у входной двери, будучи перед тем обихожен и кое-как приведен в сносное состояние моим все понимающим братом. Сидя в холоде этого особняка, я чувствую тепло гостиничного холла. Мы с Жаклин отужинали. Огонь в камине, мягкие кресла на выбор, низенькие столики для напитков и пианист, наигрывающий мелодии, что звучат повсюду. Вот эту я помню со времен наших танцев с чаем: «Незнакомцы в ночи». По скованности исполнения могу определить: обученный на классике пианист старается заработать на хлеб. Мы с Жаклин смеемся выбору песни: в стихах рассказывается о незнакомцах, обменивающихся взглядами, что невозможно между нами, о том, как любовь на всю жизнь стала правдой для незнакомцев в ночи. Это тоже забавно, хотя, признаться, смех застревает у меня в горле.
Потом, со вторым бокалом вина, прекраснее которого я никогда не пробовал, меня уговаривают сесть за фортепиано — после того, как наемный работяга освободил место. Играю Шопена, прелюдию до-диез минор, поскольку это медленное произведение на басовых, в котором я мог быть уверен, не будучи способен хорошо слышать. Потом я совершаю ошибку, перейдя к «Иисусе, радость заветных желаний человеческих», для исполнения которого требуется гибкая в пальцах правая рука: ошибка, потому как по прикосновению к моему плечу понимаю (это игравший в холле пианист останавливает меня), что последовательность написанного Бахом я соблюдаю, только начал я не с той фортепианной клавиши. Это как насмешка над Бахом. Меня поправили, и закончил я вполне сносно, но меня препровождают обратно к Жаклин совершенно униженного, что я пытаюсь скрыть за смехом: «Вот что вино делает!»
У нее в номере я признаюсь в своем бедствии: слепец, который глохнет.
Следует великодушный разговор: практический, словно бы речь идет о решении задачи.
— Почему бы тогда не начать писать? — говорит она. — В словах есть музыка, и ее, знаете ли, слышишь, размышляя.
Меня это не убеждает.
— Вы понимаете, мистер Гомер? Вы вызываете в мыслях слово и слышите, как оно звучит. Говорю вам, я знаю: в словах есть музыка, и, если вы музыкант, вам надо их записывать, чтобы слышать.
Мысль о жизни без музыки для меня непереносима. Я встаю и начинаю ходить. Делаю промах, на что-то натыкаюсь — это высокая лампа с абажуром. Лампочка лопается. Жаклин берет меня за руку и усаживает на кровать. Сама садится рядом и держит мою руку.
Я говорю ей:
— Наверное, в вашем французском языке есть музыка, вот вы и думаете, что все языки музыкальны. Я в своей речи не слышу музыки.
— Нет, вы не правы.
— И мне нечего сказать. Учитывая, кто я такой, о чем мне писать?
— О вашей жизни, само собой, — говорит она. — Именно о том, кто вы такой. О вашей жизни через дорогу от парка. Ваша история заслуживает черных ставней. Ваш особняк — достопримечательность пограндиознее Эмпайр-Стейт-билдинг.
И это так мило, так сердечно забавно, что я не в силах предаваться отчаянию. Оно заглушено — и мы смеемся.
Она позволяет мне снять с нее очки. А потом трепет узнавания, когда мы лежим вместе. Эта женщина, которую я едва знал. Кем были мы? Слепота и глухота — таков был мир, ничего не было вне нас. Самого секса я не помню. Я ощущал биение ее сердца. Помню ее слезы под нашими поцелуями. Помню, как держал ее в объятиях и отпускал Богу грех бессмысленности.
Я признателен, что Лэнгли с самого начала уговаривал меня писать, а не музицировать. Получил ли он указания от Жаклин Ру? Или я всего лишь воображаю разговор, в котором брат с несвойственными ему вежливостью и смирением слушал, как она набрасывает новый план моей жизни? Как бы то ни было, но Лэнгли поставил себе целью поддерживать меня в моем начинании. Был случай, у меня сломалась пишущая машинка, так брат носил ее в ремонтную мастерскую на Фултон-стрит. Но тогда мне пришлось бы две недели ждать завершения ремонта, вот он и устроил так, чтобы у меня появилась еще одна машинка с клавиатурой по Брайлю (две вообще-то: «Хаммонд» и «Ундервуд»), и я смог продолжать писать. Трех установленных на столе машинок и стопок бумаги в ящике на полу рядом со мной мне хватает за глаза. Пишу же я — для нее. Моей музы. Если она не вернется, если я никогда не увижу ее, то она останется в моих мыслях. Но ведь она обещала прочесть то, что я напишу. Уж она-то простит мне и неверные слова, и грамматические погрешности, и опечатки. Я стучу по клавишам Брайля, а на бумаге должно быть по-английски.
Я этим уже порядочно времени занимаюсь. Ясного ощущения, сколько именно, у меня нет. Ход времени я ощущаю как что-то пространственное, по тому, как голос Лэнгли становится все менее и менее слышим, словно он пустился в путь по длинной дороге или проваливается куда-то в пространство, или словно какой-то другой звук, мне не слышный (водопад), смывает его слова. Некоторое время я еще слышал брата, когда он кричал мне прямо в ухо. Тогда он придумал целый набор сигналов: он трогает меня за предплечье один, два или три раза — это значит, он принес мне поесть, или уже пора ложиться спать, или сделать что-то столь же существенное в обыденной жизни. А вот более сложные сведения он доносил так: ставил мой указательный палец на клавиши Брайля и складывал слова по буквам. Для этого ему пришлось самому научиться системе Брайля, что он проделал вполне основательно. Таким способом я узнавал о новостях: коротко, как по заголовку.
Однако теперь я уже сколько-то живу в полной тишине, а потому, когда он подходит и трогает меня за руку, я порой вздрагиваю, потому как привык думать, что он где-то на расстоянии, такой маленький и такой далекий… и вдруг он стоит прямо здесь, разросшийся как привидение. Словно действительность это едва ли не удаленность брата от меня, а иллюзия — его присутствие рядом.